Ключевые факторы развития социальных отношений в условиях геополитических угроз для продовольственных рынков России
Кривошлыков В.С.1, Артемов В.А.1, Конорев А.М.1
1 Курский государственный университет, ,
Скачать PDF | Загрузок: 26
Статья в журнале
Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку
Том 13, Номер 12 (Декабрь 2023)
Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=63549103
Аннотация:
В статье анализируется динамика уровня благосостояния населения (исходя из анализа совокупных доходов и расходов населения) и динамика структуры потребления продуктов питания. Делается вывод об увеличении совокупных доходов населения, что в динамике приводит к сдвигу модели потребления в сторону более качественных и питательных продуктов питания. Также развивается мысль о формировании сети сельскохозяйственных кооперативов, которые смогут реализовывать собственную продукцию через современные цифровые сервисы (напрямую потребителю), что позволит сократить конечную цену реализации.
Ключевые слова: геополитические вызовы, архитектура социальных отношений, социальные институты, социальная сфера, агропродовольственные рынки, цифровая экономика, потребление продуктов питания
Финансирование:
Работа выполнена в рамках госзадания FZRF-2023-0028 «Институциональная эволюция архитектуры финансовой модели развития социальной сферы в контексте ценностных ориентиров российской цивилизации в условиях геополитических вызовов и угроз»
JEL-классификация: Q13, Q17, Q18
Введение
По расчетам аналитиков [24] к 2050 году население планеты вырастет на 35% и достигнет, по меньшей мере, 10 млрд. чел., при этом увеличится потребление протеина на 0.5% из расчета на душу населения. Все это неизбежно потребует увеличения площади земельных ресурсов, необходимых для земледелия и роста продуктивности основных сельскохозяйственных культур. Однако, согласно тому же прогнозу, к 2050 году площадь доступной для земледелия пашни увеличится не более чем на 4%, а из-за климатических изменений и ухудшения плодородия уже используемой пашни, в 1.5 раза увеличится доля земель, подверженных засухе.
Такие макроэкономические тенденции как рост численности населения и увеличение совокупного спроса на продовольствие определяют ценовую волатильность на мировых и национальных агропродовольственных рынках, которая еще и вследствие усиливающейся внешнеполитической напряженности будет только увеличиваться.
Прогнозы развития мирового сельского хозяйства позволяют сделать несколько однозначных выводов исходя из сложившихся макроэкономических тенденций [28]: а) мировой спрос на продовольствие будет увеличиваться, даже с учетом замедляющегося экономического роста; б) численность населения планеты будет увеличиваться, хотя в первом десятилетии XXI века темпы роста численности населения замедлились; в) в случае, если не будет осуществлен переход к инновационному (интенсивному) сельскохозяйственному производству, то к 2050 году объемы производства сельскохозяйственной продукции не смогут перекрыть величину потребности в ней (рис. 1)
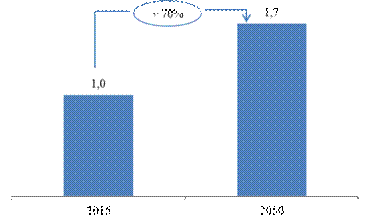
Рис. 1. Прогноз роста потребления продуктов питания*
*Источник: [24]
Существенные дисбалансы в функционирование мировой агропродовольственной системы вносят такие кризисные элементы как локальные военные конфликты (количество которых увеличилось на 86% за период с 2010 года по 2019 год), ограничения мировой торговли (санкционная политика), неблагоприятные погодные условия (рост мировой среднегодовой температуры и рост количества экстремальных погодных явлений, к которым относят ураганы, наводнения, засухи и прочее), а также трудно прогнозируемые мировые кризисы, вызванные различными факторами, например, пандемия COVID-19. Следствием дисбаланса между мировым производством и потреблением продовольствия является рост цен, который оказывает комплексное влияние на национальные социально-экономические системы. Рост мировых цен на продукты питания является объективно фиксируемым фактом и носит безусловно объективный характер за счет роста населения планеты, а следовательно, и ростом совокупного спроса на продовольствие. Дополнительным драйвером роста цен на продукты питания являются локальные кризисы, например, военный конфликт России и Украины. Обе эти страны являются крупнейшими мировыми производителями зерновых культур (на их долю приходится не меньше 30% мирового производства зерновых), более 50% мирового производства подсолнечного масла производятся этими двумя странами, Россия также является крупнейшим производителем сельскохозяйственных удобрений (доля России и Беларуси составляет не менее 1/5 мировых поставок сельскохозяйственных удобрений на мировой рынок). Поэтому любые нарушения в логистике поставок или разрыв (ограничение) торговых отношений со странами производителями продовольствия приводят к росту мировых цен (которые неизбежно отражаются ростом цен на национальном и локальном уровнях) [1].
Рост цен на продовольствие обостряет внутренние социальные проблемы, прежде всего в тех странах, которые наиболее зависимы от поставок продовольствия или удобрений. Категория продовольственной безопасности имеет два измерения: а) физическое измерение, при котором замеряется объем потребляемого продовольствия и этот объем потребления сравнивается с оптимальными рекомендуемыми параметрами и б) экономическое измерение, при котором оценивается покупательная способность населения в части экономической возможности приобретения достаточного количества продовольствия для оптимального поддержания требуемого уровня жизнедеятельности. Второй измеритель проблематики продовольственной безопасности является более важным, поскольку в мире ежегодно производится достаточное количество продовольствия для того, чтобы накормить всех жителей планеты (если делать расчет исходя из рациональных норм потребления продуктов питания). Однако все большее количество населения планеты ощущает недоступность продуктов питания именно по экономическому признаку, из-за ежегодного роста цен на продовольствие все большее количество людей могут приобрести все меньшее количество продуктов питания. Для демонстрации мирового роста цен на продовольствие достаточно привести значение среднего показателя глобального индекса цен ФАО (The FAO Food Price Index, FFPI), который в январе 2000 года составлял 52,3 единицы, а в январе 2023 года – 130,2 единицы, то есть наблюдается рост в 2,5 раза [21]. Дополнительным дестабилизирующим фактором является высокая концентрация стран производителей продовольствия, поскольку природно-климатические и научно-технологические факторы позволяют лишь относительно небольшому количеству стран занимать лидирующие позиции в рейтингах мировых поставщиков продовольствия, в то время как потребители продуктов питания находятся по всему миру и если в отношении одного (или нескольких) производителей продовольствия вводятся, например, торговые ограничения, то последствия этих ограничений отражаются ростом цен по всему миру. То есть можно сделать вывод о превалирующей экономической причине в проблематике продовольственной безопасности, в мировом масштабе именно рост цен на продовольствие становится причиной продовольственного кризиса. Поэтому можно сделать вывод о важном социальном аспекте в проблематике продовольственной безопасности, поскольку физический недостаток продовольствия, равно как и экономическая недоступность продуктов питания могут быть триггером для социальных протестов и волнений в обществе. Важность социального компонента обеспечения продовольственной безопасности указана в «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» [8], где в качестве рисков и угроз обеспечения продовольственной безопасности страны рассматриваются социальные угрозы, под которыми понимается снижение привлекательности сельского образа жизни, что может привести к снижению кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий.
Научный обзор литературы. В последнее время всё больше научных работ подтверждают эффективность внедрения цифровых решений для агропроизводственных предприятий, например в работе [13] обосновывается необходимость использования цифровых платформ для сельхозтоваропроизводителей в качестве конкурентного преимущества. В работе [19] доказано, что использование цифровых технологий в сельском хозяйстве позволяет снизить издержки производства и упростить логистические цепочки поставок продовольствия конечным потребителям. В книге [12] подробно раскрыты трансформационные процессы в сельскохозяйственном производстве, которые стали возможными в результате внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в деятельность производителей продовольствия по всему миру. В работе [20] подтверждается эффективность внедрения в сельскохозяйственное производство автоматизированных робототехнических комплексов. В данной работе [14] на примере производственных кооперативов Испании доказывается положительное влияние от внедрения цифровых решений в деятельность сельхозтоваропроизвоителей. К аналогичным выводам приходит автор работы [13] только на примере производителей продовольствия в Болгарии.
В научной печати появляются работы посвященные проблеме цифровизации сельскохозяйственного производства российских регионов, в частности в работе [9] обозначены основные перспективы сельхозтоваропроизводителей от внедрения цифровых решений на примере предприятий Воронежской области. К аналогичным выводам приходят авторы работы [22] на примере предприятий Белгородской области. На примере производителей Волгоградской области [15] показано как именно внедрение цифровых решений может упростить и усовершенствовать процедуру государственной финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей.
В исследовании [11] раскрывается механизм влияния импортозамещения на развитие функционирование производственных кооперативов, показано что развитие отечественного производства будет способствовать развитию системы продовольственных кооперативов. В работе [16] обосновывают необходимость разработки и внедрения системы отраслевых приоритетов, что позволит сделать адресной поддержку со стороны государства по отношению к производственным кооперативам. В исследованиях [17-18] уделяется внимание аспектам устойчивого развития в функционировании предприятий. В работе [22] доказано, что определяющим фактором в формировании платежеспособного спроса является уровень производства в данном регионе.
Роль инвестиционной активности, в том числе в области сельскохозяйственного производства, достаточно убедительно раскрыта в работах [4; 25], доказано, что инвестиции являются главным драйвером экономического развития формируют фундаментальную основу для высокотехнологического производства. В работе Бородина К.Г. [5] приведена методика количественной оценки экономической доступности продуктов питания, которая учитывает множество параметров. Научный интерес представляет исследование проблематики экономической доступности продовольствия Редчиковой Н.А. [6], которая осуществляет сравнительный анализ показателей экономической доступности продовольствия в разных странах мира. Региональный аспект в проблематике экономической доступности продовольствия раскрывается в статье Колесняк А.А. [7].
Практически все научные работы, посвященные проблеме цифровизации сельского хозяйства, выделяют положительные стороны этого процесса, указывая при этом, что степень цифровизации сельскохозяйственной отрасли экономики будет только увеличиваться с течением времени.
Научным пробелом следует считать недостаточное внимание поиску конкретных решений для снижения остроты проблемы экономической доступности продуктов питания для населения. Между тем в средне- и долгосрочной перспективе данная проблематика будет наиболее превалирующей, как в зарубежных странах, так и в Российской Федерации.
В связи с этим целью данной научной работы является поиск конкретных направлений для развития производственных кооперативов в Российской Федерации в изменившихся условиях цифровой трансформации экономики, что также положительно скажется на развитии социальных отношений, поскольку позволит повысить поставку готовой продовольственной продукции на рынок и снизить цену реализации за счет роста предложения.
Научную новизну работы составляет идея развития мелких сельскохозяйственных организаций, способных объединяться в кооперативы и при помощи современных цифровых сервисов реализовывать готовую сельскохозяйственную продукцию напрямую конечным потребителем, что позволит снизить (за счет снижения транзакционных издержек) конечную цену реализации продуктов питания и повысить качество и стабильность социальных отношений в обществе.
Гипотеза исследования – трансформационные изменения в экономике, определяющиеся внедрением цифровых технологий в различные сферы сельскохозяйственного производства, создают новое окно возможностей для небольших производственных предприятий за счет создания цифровых (виртуальных) платформ по взаимодействию с конечным потребителем продовольствия, что позволит получить дополнительный социальный эффект за счет роста поставок продовольствия и за счет более доступного продовольствия по экономическим основаниям.
Внедрение данных цифровых платформ позволит сократить цепочку посредников в логистике доставки продовольствия до конечного потребителя, что снизит цену готовой продукции и послужит дополнительным конкурентным преимуществом продовольственных кооперативов по отношению к крупным торговым сетям, монополизировавшим рынки сбыта.
Материалы и методы. Все цифровые данные, используемые в данной научной статье, были взяты из открытых и официальных источников, к которым относится Федеральная служба государственной статистики (Росстат), технологический проект Счетной Палаты РФ «Госрасходыbeta», а также материалы Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. Методологию данного исследования составляли монографический метод и статистический анализ.
Структурная логика исследования состоит в следующем: во-первых, анализируются совокупные доходы и расходы населения России (на основе официальных данных Росстата и Аналитического центра при Правительстве РФ) за последние десятилетия. Делается вывод о росте превышения доходов населения над совокупными расходами, осуществлено сравнение со структурой питания некоторых стран Европы. Во-вторых, анализируется структура производителей сельскохозяйственной продукции и совокупные издержки производства в крупных и малых производственных предприятиях (используются данные Росстата и J’son&Partners Consulting). В-третьих, в качестве рекомендации по конкуренции с крупными сельхозтоваропроизводителями и сетевыми сбытовыми структурами обосновывается необходимость разработки цифровых (виртуальных) платформ для небольших производственных кооперативов, что позволит снизить издержки на логистику и сбыт продуктов питания.
Результаты.
Специфика развития сельскохозяйственного производства позволяет говорить о коренном переломе в видении данного типа производства, который ознаменовал переход от производства в сельской местности к производству вблизи крупных городских агломераций. Технологические особенности (автоматизация, цифровизация) современного сельскохозяйственного производства позволяют считать его высокотехнологичным, что требует развития отечественных технологий по приоритетным направлениям развития аграрного производства.
Переломный переход от XX века к веку XXI ознаменован не только трансформацией сельского хозяйства как высокотехнологичной отрасли, но и внедрением во все сферы жизнедеятельности человека цифровых технологий. Среди всех министерств и ведомств Российской Федерации по совокупным затратам на внедрение цифровых технологий, министерство сельского хозяйства занимает одно из последних мест.
Совокупные расходы на цифровизацию сельского хозяйства России в 2020 году составили 1,9 млрд. руб., что составляет всего 0,5% от общих государственных расходов на сельское хозяйство [3]. Для сравнения укажем, что Федеральная налоговая служба потратила на цели цифровизации 81,3 млрд. руб. или 9% от всех расходов этой службы за 2020 год [3], при том, что данная сфера не является производственной. Динамика расходов на цели цифровизации сельскохозяйственного производства однозначно позволяет сделать вывод об их недостаточности, за последние семь лет совокупные расходы на цифровизацию не достигали и одного процента от величины всех расходов государства на сельское хозяйство страны (рис. 2).
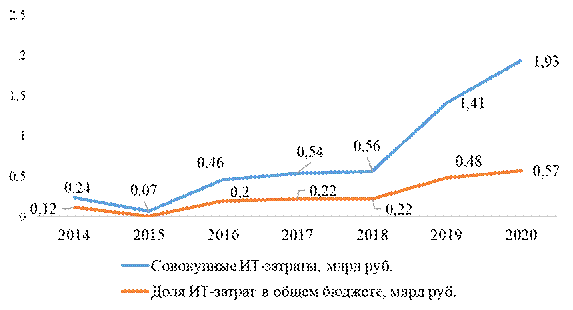
Рис. 2. Расходы Министерства сельского хозяйства на цифровизацию*
*Источник: Рейтинг ИТ-расходов федеральных государственных учреждений [3]
Анализ совокупных денежных доходов и расходов населения Российской Федерации позволяет сделать вывод о некотором превышении за весь рассматриваемый период доходов над расходами, наибольшее значение которого наблюдалось в 2015 году (4,9 трлн. руб.), 2016 году (4,7 трлн. руб.) и в 2020 году (5,8 трлн. руб.) (рис. 3).
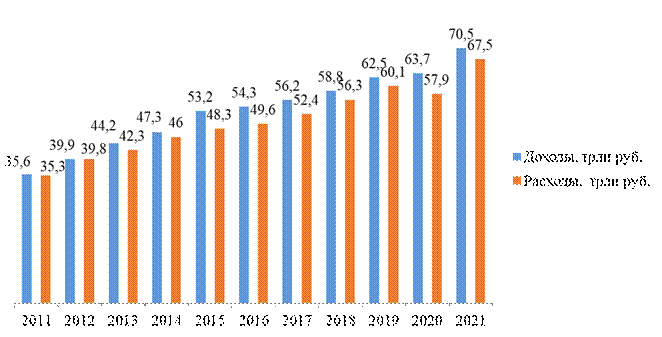
Рис. 3. Динамика доходов и потребления домашних хозяйств в России, трлн. руб.*
*Источник: Росстат
За все одиннадцать лет с 2011 года и по 2021 год совокупные доходы граждан РФ превышали совокупные расходы в среднем на 2,7 трлн. руб. ежегодно. Причем наблюдается увеличение разрыва между доходами и расходами с течением времени, например, если в 2011 году разница между доходами и расходами составляла 0,3 трлн. руб., то уже в 2021 году эта разница составляла 3 трлн. руб. Эти данные позволяют сделать вывод о росте благосостояния населения страны, но для дальнейшего исследования необходимо проанализировать структуру потребительских расходов (рис. 4).
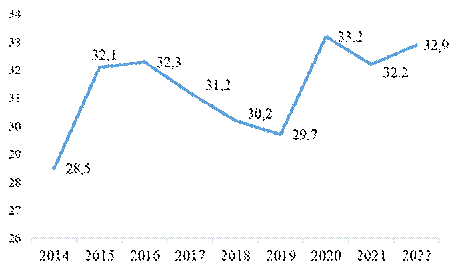
Рис. 4. Доля расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах, %
*Источник: Росстат
Уровень доходов населения в России в 5-6 раз ниже, чем в странах ЕС, при практически сопоставимом уровне цен, что объясняет нерациональную структуру потребления продовольствия. Согласно данным официальной статистики за последние пять лет домохозяйства в России тратили на потребление продуктов питания примерно 30% всего заработка (данные показатель незначительно колеблется в зависимости от региона), в то время как в среднем по ЕС расходы домохозяйств на продукты питания составили 17% от общего заработка [11].
Наиболее низкие затраты на продукты питания среди стран ЕС наблюдаются в Великобритании (12.1%, причем 24% своего дохода Британцы тратят на отдых и развлечения); Ирландии (11.5%, причем 31% своего дохода Ирландцы тратят на образование и медицину); Германии (11.5%, причем 33% своего дохода Немцы тратят на образование и медицину); Финляндии (12%); Франции (14.3%), Люксембурге (8.7%). В большинстве стран ЕС расходы на продукты питания в структуре всех расходов домохозяйств занимают, как правило, третье или четвертое место, после расходов на образование, медицину, отдых и развлечения. То есть уровень благосостояния населения в Европейских странах позволяет формировать оптимальную структуру потребления, в то время как в России население тратит свои доходы, прежде всего на продовольствие и ЖКХ.
Согласно, размещаемым в открытом доступе, статистическим материалам Мирового банка совокупная добавленная стоимость продукции сельского хозяйства в 2022 году составляла в РФ более 87 млн долл., в то время как в США аналогичный показатель составлял более 223 млн долл. То есть можно сделать вывод о том, что добавленная стоимость сельскохозяйственной продукции в США в 2,5 раза превышает добавленную стоимость отечественной (российской) продукции. Благодаря целенаправленной государственной политике, поддерживающей отечественное сельскохозяйственное производство, добавленная стоимость отечественной продукции превышает аналогичный показатель ведущих европейских государств (Германии и Франции) (табл. 1).
Таблица 1. Добавленная стоимость выпущенной продукции по отраслям: сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, млн долл. США, 2022 год*
|
Страна
|
Добавленная стоимость продукции
в 2022 году |
|
Китай
|
1 311 311,4
|
|
Индия
|
571 633,4
|
|
США
|
223 723,7
|
|
Россия
|
87 408,2
|
|
Франция
|
53 182,1
|
|
Германия
|
37 565,4
|
Отставание в 2,5 раза по добавленной стоимости продукции сельского хозяйства от США объясняется степенью эффективности сельскохозяйственного производства, а именно низкой степенью производительности труда на этапе производства, что в свою очередь определяет высокие удельные издержки производства из расчета на одну единицу продукции. То есть один и тот же произведенные объем сельскохозяйственной продукции стоит по-разному в разных странах по причине дороговизны самого процесса производства.
Вторая причина различной валовой стоимости готовой продукции сельскохозяйственного производства определяется длинной и сложностью цепочек поставок готовой продукции до конечного потребителя. Чем длиннее такая цепочка, чем больше посредников – тем выше цена продукции для конечного потребителя. При переходе продовольственной продукции от одного посредника к другому увеличивается цена, за счет увеличения торговой наценки. Чем длиннее путь от конкретного товаропроизводителя до конечного потребителя, тем выше конечная цена продукции.
Отдельно следует упомянуть о важной проблеме, которой является монополизация рынков крупными сельхозтоваропроизводителями, которые также определяют ценовую политику за счет существенного влияния на рынок (рис. 5).

Рис. 5. Структура сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств в РФ
*Источник: Росстат
Согласно официальным статистическим данным в России за последние двадцать лет изменилась структура сельскохозяйствнного производства по основным категориям производителей. В частности, повысилась доля крупных сельскохозяйственных организаций с 45.2% до 59.1%. Это означает, что почти 60% всего объема производимой сельскохозяйственной продукции контролировали крупные агрохолдинги, которые могут оказывать существенное влияние на ценообразование за счет масштабов собственного производства и контроля рынка.
Для производимой сельскохозяйственной продукции, которая выпускается фермерскими хозяйствами понизилась с 51.6% в 2000 году до 25.5% в 2021 году, это происходит за счет перераспределения производственных мощностей и сельскохозяйственных земель в пользу крупных сельскохозяйственных предприятий (агрохолдингов). Финансовые условия ведения хозяйственной деятельности не позволяют фермерам конкурировать с крупными сельскохозяйственными организациями ни по масштабам финансирования деятельности, ни по уровню себестоимости производства. Поэтому с течением времени структура сельскохозяйственного производства перераспределяется в сторону крупных производителей. Главным недостатком сложившейся структуры производства продовольственной продукции в России является то, что доля крупных сельхозтоваропроизводителей продолжает расти и в среднесрочной перспективе (5-7 лет) их доля может превысить 80%, что позволит полностью контролировать рынок сельскохозяйственной продукции в стране и формировать ценовую политику.

Рис. 6. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах по Российской Федерации
(в среднем на потребителя в год, кг.), 1990 г.
*Источник: Росстат
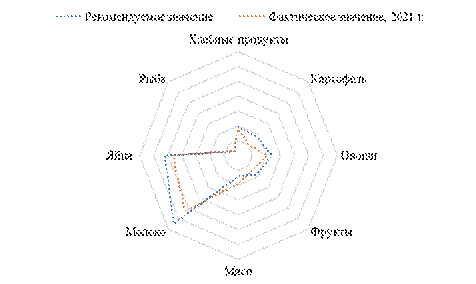
Рис. 7. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах по Российской Федерации
(в среднем на потребителя в год, кг.), 2021 г.
*Источник: Росстат
Анализ структуры потребления основных продуктов питания как индикатор развития социальных отношений, можно сделать вывод о том, что потребление наиболее ценных продуктов питания с течением времени увеличивалось. В частности, потребление овощей возросло с 85 кг. в 1990 году из расчета на душу населения до 101 кг. в 2021 году, то есть россияне в среднем стали потреблять больше овощей на 16 кг. или на 18.8% (табл. 2).
Таблица 2. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах по Российской Федерации *
|
Вид продукта
|
Рекомендуемое
значение
|
Фактическое
значение, 1990 г.
|
Фактическое
значение, 2021 г.
|
|
Хлебные
продукты, кг.
|
96
|
97
|
90
|
|
Картофель,
кг.
|
90
|
94
|
52
|
|
Овощи,
кг.
|
120
|
85
|
101
|
|
Фрукты,
кг.
|
90
|
37
|
72
|
|
Мясо,
кг.
|
70
|
70
|
94
|
|
Молоко
и молочные продукты, кг.
|
325
|
378
|
265
|
|
Яйца,
шт.
|
260
|
231
|
233
|
|
Рыба,
кг.
|
20
|
15
|
22
|
Потребление фруктов за рассматриваемые тридцать лет также увеличилось с 37 кг. в 1990 году из расчета на душу населения до 72 кг. в 2021 году, общее увеличение потребления фруктов составило 35 кг. или в 1.9 раза. Также увеличилось потребление мяса и мясопродуктов с 70 кг. на душу населения в 1990 году до 94 кг. в 2021 году, общее увеличение в потреблении мяса и мясопродуктов составило 24 кг. или 34.3%. Наблюдается также увеличилось потребление рыбы с 15 кг. на душу населения в 1990 году до 22 кг. в 2021 году, то есть общее увеличение потребления рыбы составило 7 кг. или 46,7%. В целом можно сделать вывод о том, что с ростом благосостояния менялась и структура потребления продуктов питания, которая сдвигалась в сторону более калорийных и полезных продуктов (овощи, фрукты, мясо, рыба), а потребление высокоуглеводных продуктов сокращалось (потребление картофеля сократилось на 42 кг., а потребление хлебобулочных изделий сократилось на 7 кг.
Складывающиеся тенденции по увеличению доли применяемых цифровых технологий в том числе и в сельскохозяйственном производстве создают новые возможности прежде всего для небольших сельскохозяйственных организацийА, которые смогут сократить издержки производства и напрямую, без посредников, работать с конечными потребителями продовольствия.
В качестве пилотного успешного проекта применения цифровых технологий в кооперативном секторе экономики региона можно назвать проект «Цифровая кооперация» Ульяновской области. Данный проект призван максимально сократить цепочку доставки готовой продукции от производителя к потребителю за счет создания электронных торговых и платежных системы. Эти решения позволят снизить удельные и транспортные издержки, что позволит снизить розничную цену реализуемого продовольствия. При таких условиях ведения бизнеса небольшие сельскохозяйственные организации могут успешно конкурировать с крупными региональными и федеральными агрокомплексами.
Выводы
Выявленные тенденции в продовольственном секторе экономики страны позволили сделать несколько важных выводов:
а) за последние десятилетие наблюдался рост благосостояния населения страны, который проявлялся не только в превышении совокупных доходов над расходами, но и в увеличении разрыва доходов над расходами с течением времени. Следствием роста благосостояния увеличилось потребление наиболее полезных и калорийных продуктов питания (мясо, рыба, фрукты, овощи) в рационе потребления населения страны, потребление высокоуглеводных продуктов питания сократилось (хлебобулочные изделия и картофель). Несмотря на положительную динамику роста благосостояния населения и положительных изменениях в структуре потребительского потребления уровень благосостояния населения страны еще отстает от ведущих экономически-развитых стран Западной Европы;
б) наблюдается рост уровня цифровизации всех отраслей экономики, при том, что уровень цифровизации сельского хозяйства запаздывает. Это создает возможности для внедрения новых цифровых разработок и получения дополнительного доходя за счет высокого потенциала роста в данной отрасли;
в) уровень розничных цен на продовольствие в России остается высоким и продолжает расти, что сдерживает совокупный спрос. Основная причина роста цен – низкий уровень механизации производства и частичная монополизация некоторых рынков сельскохозяйственной продукции (прежде всего монополизация рынков сбыта готовой продукции торговыми сетями);
г) внедрение цифровых технологий в сельскохозяйственное производство позволит кардинально снизить транзакционные издержки и упростить (сократить) цепочку поставок готовой продукции до конечного потребителя. А это в свою очередь позволит снизить розничные цены на продовольствие и увеличить совокупный спрос;
д) создание цифровых сервисов позволит фермерам формировать портфель заказов и не зависеть от монополии сбыта со стороны торговых сетей, которые не допускают мелких товаропроизводителей до прилавка;
е) объединение в кооперативы нескольких мелких товаропроизводителей в совокупности с применением современных цифровых технологий позволит составить конкуренцию крупным агрохолдингам.
Источники:
2. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 18.12.2023).
3. Рейтинг ИТ-расходов федеральных государственных учреждений. Официальный портал Счетной палаты Российской Федерации «Госрасходыбета». (2020). [Электронный ресурс]. URL: https://spending.gov.ru/analytics/ratings/it/ (дата обращения: 16.07.2021).
4. Сергушина Е. С., Елаева А. В., Кабанов О. В., Логинов В. В. Роль инвестиций в экономике Российской Федерации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – № 5. – c. 187-191. – doi: 10.24411/2304-120X-2019-14034.
5. Бородин К.Г. Экономическая доступность продовольствия: факторы и методы оценки // Экономический журнал ВШЭ. – 2018. – № 4. – c. 563-582. – doi: 10.17323/1813-8691-2018-22-4-563-582.
6. Редчикова Н.А., Семенова А.Г. Экономическая доступность продовольствия в Российской Федерации // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. – 2015. – № 4 (32). – c. 71-87. – doi: 10.17223/19988648/32/5.
7. Колесняк А.А., Полянская Н.М. Экономическая доступность продовольствия: региональный аспект // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. – 2021. – № 4. – c. 538-547. – doi: 10.21603/2500-3372-2021-6-4-538-547.
8. Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». Гарант. [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73338425/?ysclid=lqg714hqr2366657069 (дата обращения: 22.12.2023).
9. Agibalov A.V., Zaporozhtseva L.A., Tkacheva Y.V. Agriculture of the Voronezh region: challenges and prospects of the digital economy. / In A. Bogoviz (Ed.) Complex Systems: Innovation and Sustainability in the Digital Age. Studies in Systems, Decision and Control. Vol. 282. - Cham: Springer, 2020. – 235-241 p.
10. Amirova E.F., Petrova L.I., Ziuzya E.V., Sleptsov V.V., Krishtaleva T.I., Kuznetsova M.V. Import substitution as an economic incentive mechanism for Russian commodity producers // International Journal of Civil Engineering and Technology. – 2019. – № 10(2). – p. 926-931.
11. Analytical Center for the Government of the Russian Federation. Inequality in consumption of EU households, March 2020. No. 54. - Moscow, Russia, 2020. – 20 p.
12. Annosi M., Brunetta F. How is digitalization affecting agri-food? New business models, strategies and organizational forms. - New York: Routledge, 2021.
13. Bachev H. State, development and efficiency of digitalization in Bulgarian agriculture // SSRN Electronic Journal. – 2020. – doi: 10.2139/ssrn.3576025.
14. Ciruela-Lorenzo A.M., Del-Aguila-Obra A.R., Padilla-Melendez A, Plaza-Angulo J.J. Digitalization of agri-cooperatives in the smart agriculture context // Proposal of a digital diagnosis tool. Sustainability. – 2020. – № 12(4). – p. 13-25.
15. Glushchenko A., Kovalenko O., Slozhenkina M., Mosolova D. Analysis of the impact of state support on the efficiency of agricultural production in the context of digitalization in the Volgograd regio. / Proceedings from IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: Innovative Development of Agri-Food Technology. - Krasnoyarsk, Russia: Krasnoyarsk State Agrarian University, 2020. – 82062 p.
16. Izotov A.V., Rostova O.V. Development of a system of sectoral investment priorities. / Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. 3-4 May 2017 Vienna, Austria. - Vienna, International Business Information Management Association, 2017. – 1822-1832 p.
17. Khudyakova T., Shmidt A. Methodical approaches to managing the sustainability of enterprises in a variable economy // Espacios. – 2018. – № 39(13). – p. 28.
18. Khudyakova T., Shmidt A., Shmidt S. Implementation of controlling technologies as a method to increase sustainability of the enterprise activities // Entrepreneurship and Sustainability Issues. – 2019. – № 7(2). – p. 1185-1196.
19. Mani Sai Jyothi P., Nandan D. Utilization of the internet of things in Agriculture: possibilities and challenges. / n M. Kumar Sharma, B. Sahana, H. Zolfagharinia (Ed.) Soft Computing: Theories and Applications. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1154. - Singapore: Springer, 2020.
20. Mohd Saiful Azimi Mahmud, Mohamad Shukri Zainal Abidin, Abioye Abiodun Emmanuel, Hameedah Sahib Hasan Robotics and automation in agriculture: present and future applications // Applications of modelling and simulation. – 2020. – № 4. – p. 130-140.
21. Monthly food price index worldwide from 2000 to 2023. [Электронный ресурс]. URL: https://www.statista.com/statistics/1111134/monthly-food-price-index-worldwide/ (дата обращения: 19.12.2023).
22. Poletaev A., Narozhnyaya A., Kitov M. Digitalization of the agro-industrial complex in the Russian Federation: current status and development prospects. / Proceedings from IDSISA 2020: International Scientific and Practical Conference «From Inertia to Develop: Research and Innovation Support to Agriculture». - Yekaterinburg, Russia: Curran Associates, Inc., 2020. – 04005 p.
23. Revenko L., Revenko N. He Fourth Industrial Revolution and Digital Platforms as a Strategic Vector of Global Agribusiness Development. / In N. Konina (Ed.) Digital Strategies in a Global Market. - Cham: Palgrave Macmillan, 2021. – 185-198 p.
24. The Future of Agriculture and Food. Facts and Figures (n.d.). Handelsblatt Research Institute. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bayer.com/sites/default/files/factbook.pdf (дата обращения: 18.12.2023).
25. Sergeevna S. E., Vladimirovich K. O., Nikolaevna E. M. [et al.] The role of investments for the economy of the Russian Federation // Opcion. – 2020. – № 36(27). – p. 1377-1385.
26. The World Bank. (2022) Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$). World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Data (2022). [Электронный ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.CD?most_recent_value_desc=true (дата обращения: 26.12.2023).
27. Timiryanova V., Grishin K., Krasnoselskaya D. Spatial patterns of production-distribution-consumption cycle: the specifics of developing Russia // Economies. – 2020. – № 8(4). – p. 87. – doi: 10.3390/economies8040087.
28. USDA Agricultural Projections to 2029. Office of the Chief Economist, World Agricultural Outlook Board, U.S. Department of Agriculture. Prepared by the Interagency Agricultural Projections Committee. Long-term Projections Report OCE-2020-1, 114 pp. [Электронный ресурс]. URL: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA_Agricultural_Projections_to_2029.pdf (дата обращения: 19.12.2023).
Страница обновлена: 22.11.2025 в 03:26:01
Download PDF | Downloads: 26
Key factors in the development of social relations in the context of geopolitical threats to the food markets of the Russian Federation
Krivoshlykov V.S., Artemov V.A., Konorev A.M.Journal paper
Journal of Economics, Entrepreneurship and Law
Volume 13, Number 12 (december 2023)
Abstract:
The article analyzes the dynamics of the level of welfare of the population (based on the analysis of total incomes and expenditures) and the dynamics of the structure of food consumption. The conclusion about an increase in the total income of the population is made. In dynamics, it leads to a shift in the consumption model towards higher-quality and nutritious food products. The idea of forming a network of agricultural cooperatives that can sell their own products through modern digital services directly to the consumer is also being developed. This will reduce the final selling price.
Acknowledgments:
The work was carried out within the framework of the state task FZRF-2023-0028 "Institutional evolution of the architecture of the financial model for the development of the social sphere in the context of the value orientations of Russian civilization in the context of geopolitical challenges and threats"
Keywords: geopolitical challenges, architecture of social relations, social institutions, social sphere, agri-food markets, digital economy, food consumption
Funding:
JEL-classification: Q13, Q17, Q18
References:
Analytical Center for the Government of the Russian Federation. Inequality in consumption of EU households, March 2020. No. 54 (2020).
Agibalov A.V., Zaporozhtseva L.A., Tkacheva Y.V. (2020). Agriculture of the Voronezh region: challenges and prospects of the digital economy Cham : Springer.
Amirova E.F., Petrova L.I., Ziuzya E.V., Sleptsov V.V., Krishtaleva T.I., Kuznetsova M.V. (2019). Import substitution as an economic incentive mechanism for Russian commodity producers International Journal of Civil Engineering and Technology. (10(2)). 926-931.
Annosi M., Brunetta F. (2021). How is digitalization affecting agri-food? New business models, strategies and organizational forms New York : Routledge.
Bachev H. (2020). State, development and efficiency of digitalization in Bulgarian agriculture SSRN Electronic Journal. doi: 10.2139/ssrn.3576025.
Borodin K.G. (2018). Ekonomicheskaya dostupnost prodovolstviya: faktory i metody otsenki [Economic access to food: factors and methods of assessment]. Ekonomicheskiy zhurnal VShE. (4). 563-582. (in Russian). doi: 10.17323/1813-8691-2018-22-4-563-582.
Ciruela-Lorenzo A.M., Del-Aguila-Obra A.R., Padilla-Melendez A, Plaza-Angulo J.J. (2020). Digitalization of agri-cooperatives in the smart agriculture context Proposal of a digital diagnosis tool. Sustainability. (12(4)). 13-25.
Glushchenko A., Kovalenko O., Slozhenkina M., Mosolova D. (2020). Analysis of the impact of state support on the efficiency of agricultural production in the context of digitalization in the Volgograd regio Krasnoyarsk: Institute of Physics and IOP Publishing Limited.
Izotov A.V., Rostova O.V. (2017). Development of a system of sectoral investment priorities Vienna: International Business Information Management Association.
Khudyakova T., Shmidt A. (2018). Methodical approaches to managing the sustainability of enterprises in a variable economy Espacios. (39(13)). 28.
Khudyakova T., Shmidt A., Shmidt S. (2019). Implementation of controlling technologies as a method to increase sustainability of the enterprise activities Entrepreneurship and Sustainability Issues. (7(2)). 1185-1196.
Kolesnyak A.A., Polyanskaya N.M. (2021). Ekonomicheskaya dostupnost prodovolstviya: regionalnyy aspekt [Economic accessibility of food: a regional aspect]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Politicheskie, sotsiologicheskie i ekonomicheskie nauki. (4). 538-547. (in Russian). doi: 10.21603/2500-3372-2021-6-4-538-547.
Mani Sai Jyothi P., Nandan D. (2020). Utilization of the internet of things in Agriculture: possibilities and challenges Singapore : Springer.
Mohd Saiful Azimi Mahmud, Mohamad Shukri Zainal Abidin, Abioye Abiodun Emmanuel, Hameedah Sahib Hasan (2020). Robotics and automation in agriculture: present and future applications Applications of modelling and simulation. (4). 130-140.
Monthly food price index worldwide from 2000 to 2023. Retrieved December 19, 2023, from https://www.statista.com/statistics/1111134/monthly-food-price-index-worldwide/
Poletaev A., Narozhnyaya A., Kitov M. (2020). Digitalization of the agro-industrial complex in the Russian Federation: current status and development prospects Yekaterinburg: Curran Associates, Inc.
Redchikova N.A., Semenova A.G. (2015). Ekonomicheskaya dostupnost prodovolstviya v Rossiyskoy Federatsii [Economic access to food in the russian federation]. Vestn. Tom. gos. un-ta. Ekonomika. (4 (32)). 71-87. (in Russian). doi: 10.17223/19988648/32/5.
Revenko L., Revenko N. (2021). He Fourth Industrial Revolution and Digital Platforms as a Strategic Vector of Global Agribusiness Development Cham : Palgrave Macmillan.
Semeko G.V. (2023). Mirovoy prodovolstvennyy rynok: sovremennye vyzovy i perspektivy [World food market: current challenges and prospects]. Ekonomicheskie i sotsialnye problemy Rossii. (1). 19-43. (in Russian). doi: 10.31249/espr/2023.01.01.
Sergeevna S. E., Vladimirovich K. O., Nikolaevna E. M. [et al.] (2020). The role of investments for the economy of the Russian Federation Opcion. 36 (36(27)). 1377-1385.
Sergushina E. S., Elaeva A. V., Kabanov O. V., Loginov V. V. (2019). Rol investitsiy v ekonomike Rossiyskoy Federatsii [The role of investments in the economy of the Russian Federation]. Scientific and methodical electronic Concept magazine. (5). 187-191. (in Russian). doi: 10.24411/2304-120X-2019-14034.
The Future of Agriculture and Food. Facts and Figures (n.d.)Handelsblatt Research Institute. Retrieved December 18, 2023, from https://www.bayer.com/sites/default/files/factbook.pdf
The World Bank. (2022) Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$). World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data filesData (2022). Retrieved December 26, 2023, from https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.CD?most_recent_value_desc=true
Timiryanova V., Grishin K., Krasnoselskaya D. (2020). Spatial patterns of production-distribution-consumption cycle: the specifics of developing Russia Economies. (8(4)). 87. doi: 10.3390/economies8040087.
USDA Agricultural Projections to 2029. Office of the Chief Economist, World Agricultural Outlook Board, U.S. Department of Agriculture. Prepared by the Interagency Agricultural Projections Committee. Long-term Projections Report OCE-2020-1, 114 pp. Retrieved December 19, 2023, from https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA_Agricultural_Projections_to_2029.pdf
