Prospects for the development of single-industry towns in the Arctic zone on the example of aquaculture companies in the Republic of Karelia
Bekarev A.V.1, Tishkov S.V.1, Ivashko E.E.2,3
1 Карельский научный центр
2 Карельский научный центр РАН
3 Петрозаводский государственный университет
Download PDF | Downloads: 42
Journal paper
Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку
Volume 13, Number 5 (May 2023)
Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=53965291
Abstract:
The article discusses the particularities of single-industry towns, their main problems and the practice of creating advanced development zones in the region. On the example of existing aquaculture companies, the prospects for the development of single-industry towns in the Arctic zone of the Republic of Karelia are determined. A brief description of the situation in the regional fishery complex is given. Examples of obtaining socio-economic and budgetary effects as a result of the economic activities of aquaculture companies in single-industry towns and monosettlements of the Arctic zone of the Republic of Karelia are presented.
FUNDING.
The research was carried out with the financial support of the Russian Academy of Sciences within the framework of the scientific project No. 21-18-00500 "Institutional engineering of single–industry towns of the Arctic zone: modernization and sustainable development".
Keywords: Arctic single-industry towns, advanced development zone, aquaculture, fish farming, economic effect, social effect, sustainable development
Funding:
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта «Институциональный инжиниринг моногородов Арктической зоны – модернизация и устойчивое развитие» № 21-18-00500
JEL-classification: R11, R12, R13
Введение. Промышленные моногорода Арктики, традиционно формировавшиеся вблизи крупных месторождений природных ископаемых, сильно зависят от степени и успешности освоения ресурсной базы, при этом оказывая значимое влияние на развитие как локальных территорий нахождения, так и региона в период активной стадии жизненного цикла https://creativeconomy.ru/journals/ce/publication производств [1]. Постепенное угасание и закрытие градообразующих предприятий приводит, как правило, к деградации локальных экономик и социальной инфраструктуры [2], оттоку высококвалифицированной рабочей силы и наиболее экономически активной и инициативной части населения [3]. Преимущество в привлечении и закреплении населения и трудовых ресурсов на Севере имеют более крупные города, а также поселения с крупными работодателями, развитыми центрами образования и университетами, что отмечается как отечественными [4], так и зарубежными исследователями [5].
На сегодняшний день термин «моногород» ассоциируется с неблагополучным местом для жизни, в котором большинство всех социально-экономических процессов сконцентрировано вокруг одного градообразующего предприятия, находящемся в стагнации или перманентном кризисе. Низкий уровень социально-экономического положения на уровне финансов домашнего хозяйства и отсутствие перспектив роста становится определяющим фактором оттока молодого работоспособного населения. Проблема депрессивного состояния моногородов является комплексной, так как даже наличие рабочих мест и конкурентной заработной платы, соответствующей потребностям потенциального кадрового потенциала на данной территории, не является значительным фактором сдерживания оттока населения.
Решение проблем моногорода заключается в диверсификации рабочих мест, развитии здравоохранения, культуры, образования, доступного жилья, обеспечения возможностей самореализации и досуга, а также формирование и поддержание выгодных экономических условий для функционирования бизнеса. Сложность данной проблемы продиктована, с одной стороны, необходимостью реализации долгосрочных целей развития, а с другой стороны, необходимостью ясного понимания намеченных целей через систему обоснованных показателей эффективности реализованных мер, что реализуемо только в режиме совместной работы бизнеса, муниципальной и государственных властей.
В настоящее время сформировались различные подходы в изучении проблемы моногородов и Арктики, среди них можно выделить исследования демографического потенциала и его влияния на экономику региона [6,7,8]. В зарубежных исследованиях на примере стран Северной Европы (Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания) развивается концепция умного города “Смарт-Сити” [9,10], однако в российских условиях широко использовать зарубежный опыт не представляется возможным, т.к. в них не учитываются особенности Арктической зоны [11,12]. В российских научных исследованиях анализируется опыт применения различных экономико-правовых режимов [13], уровень инновационного развития, о динамике развития инновационной деятельности в информационном обществе, об экономической активности региона, о состоянии окружающей среды, научного, кадрового и образовательного потенциала региона, что даёт представление о месте конкретного региона среди других арктических субъектов РФ [14,15,16]. Отдельно стоит отметить поиск путей решения проблем моногородов в рамках исследования драйверов социально-экономического развития в условиях глобальных изменений [17,18].
Научная новизна нашего исследования заключается в том, что мы впервые на основе данных статистики и открытых данных Федеральной налоговой службы сравнили фактически полученный социально-экономический эффект от деятельности компаний-резидентов территорий опережающего развития Арктической зоны Республики Карелия, функционирующих в условиях налоговых преференций, и предприятий аквакультуры, действующих в регионе. В качестве объекта исследования мы рассматривали показатели совокупного социально-экономического эффекта. Цель исследования заключалась в анализе деятельности предприятий аквакультуры с точки зрения перспективы применимости данной практики как драйвера развития на территории моногородов арктической зоны Республики Карелия.
Аквакультура является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей современной России. При этом, создание предприятия рыбоводства в арктической зоне Республики Карелия (далее АЗ РК), с одной стороны, не требует таких же больших инвестиций, подготовленной инфраструктуры и уровня квалификации кадров, как промышленное предприятие, а с другой стороны, в отличие от других сельскохозяйственных отраслей, хорошо подходит для Арктической зоны России (в части выращивания холодноводных видов рыбы и водорослей), при этом, обеспечивая рабочие места в удаленных и депрессивных районах, поддерживая транспортную и энергетическую инфраструктуру, что дает комплексный бюджетный и социально-экономический эффект.
Общая гипотеза статьи заключается в том, что предприятия аквакультуры могут стать драйвером развития моногородов АЗ РК с учетом их специфики и необходимости комплексного развития в современных условиях.
При подготовке статьи в качестве основных источников информации были использованы официальные статистические данные, материалы предприятий и организаций, работающих в сфере рыбного хозяйства, документы Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, стратегии развития моногородов.
1. Особенности и основные проблемы моногородов России
Развитие монопрофильных поселений является одной из наиболее сложных социально-экономических проблем современной российской экономики. В 1990-е годы под термином «моногород» стали подразумевать городские поселения, социальная и экономическая ситуация в которых зависит от состояния и развития одного или нескольких ведущих градообразующих предприятий. С разрушением существовавшей экономической системы, перестройкой логистических цепочек, большинство градообразующих предприятий оказались неконкурентоспособными, что привело к массовому и повсеместному возникновению кризисных городов практически на всей территории страны. Такие города характеризовались высокими рисками и проблемами социально-экономического развития, которые не могли быть решены на муниципальном и региональном уровнях.
Ключевое свойство моногорода – зависимость от градообразующего предприятия, которая выражается в нескольких аспектах [19]:
1. Зависимость местного рынка труда от основного градообразующего предприятия. При этом, при возникновении кризиса на предприятии возникает острая проблема высокой безработицыhttps://creativeconomy.ru/journals/ce/publication в городском поселении.
2. Зависимость местного бюджета монопрофильного поселения от налоговых поступлений градообразующего предприятия. Одним из основных бюджетоформирующих налогов является налог на доходы физических лиц, который формируется из заработной платы. При значительном сокращении численности занятых или зарплат на градообразующем предприятии существенно снижаются доходы бюджета моногорода.
3. Энергетическая зависимость жилищно-коммунального хозяйства монопрофильного городского поселения от поставок тепла и энергии от источников, находящихся на балансе градообразующего предприятия.
4. Экологическая зависимость состояния окружающей среды в моногородах от вредных выбросов с предприятия. В некоторых случаях «грязные», даже токсичные производства не закрывают, поскольку это может привести к массовой безработице и обострению социально-экономической обстановки.
Перечень моногородов составлен на основании распоряжения правительства РФ от 29 июля 2014 г. №13-98 [20], а постановление Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 709 определяет, что муниципальное образование признается монопрофильным (моногородом) в одном из следующих случаев [21]:
а) муниципальное образование соответствует одновременно следующим критериям:
– имеет статус городского округа или городского поселения, за исключением муниципальных образований, в которых в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится законодательный (представительный) орган власти субъекта Российской Федерации;
– численность постоянного населения превышает 3 тыс. человек;
– численность работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица или нескольких организаций, осуществляющих на один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) достигает 20% среднесписочной численности работников всех организаций на территории муниципального образования;
– осуществление одной из указанных организаций (одним из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций) деятельности по добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа), и (или) производству, и (или) переработке промышленной продукции;
б) муниципальное образование включено по состоянию на 1 января 2014 г. в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) и относится к категориям 1 или 2 монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения.
На основании данных перечня моногородов, Республика Карелия занимает пятое место по количеству моногородов (табл. 1).
Таблица 1
Выборка регионов-лидеров РФ по числу монопрофильных муниципальных образований на 2022 г.
|
Регион
|
Число
монопрофильных муниципальных образований
|
|
Кемеровская область
|
24
|
|
Свердловская область
|
17
|
|
Челябинская область
|
16
|
|
Нижегородская область
|
12
|
|
Республика Карелия
|
11
|
Также согласно перечню моногородов [20], по состоянию на 2021 г. в России выделяется 321 моногород; порядка 10% (14 млн. чел.) населения страны проживает на территории монопрофильных муниципальных образований из которых 19 находятся в Арктической зоне РФ (табл. 2).
Таблица 2
Монопрофильные муниципальные образования Арктической зоны РФ
|
Регион
|
Монопрофильные
муниципальные образования
|
|
Республика
Карелия
|
п.г.т.
Надвоицы, г. Сегежа,
г. Костомукша |
|
Мурманская
область
|
г.
Кировск, г. Ковдор, г. Мончегорск, п.г.т. Никель, п.г.т. Ревда, г. Оленегорск
|
|
Республика
Саха (Якутия)
|
п.г.т.
Депутатский, п.г.т. Тикси
|
|
Архангельская
область
|
г.
Онега, г. Северодвинск
|
|
Республика
Коми
|
г.
Воркута, г. Инта
|
|
Чукотский
автономный округ
|
п.г.т.
Беринговский, г. Певек
|
|
Красноярский
край
|
г.
Норильск, г. Дудинка
|
Рис. 1. Численность населения и динамика
её изменения для моногородов АЗ РФ, 2020 - 2021.
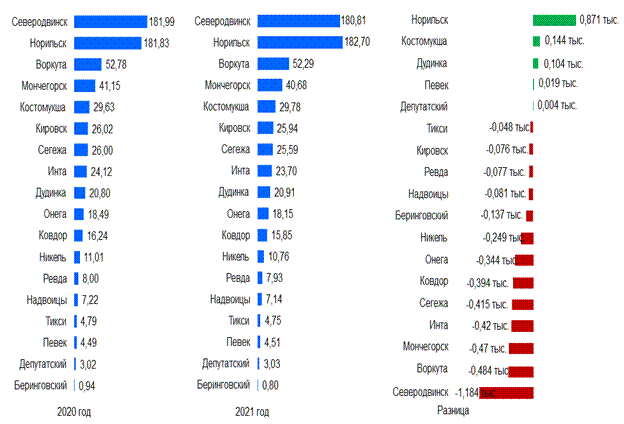
Составлено авторами, источник: Данные Росстат [Электронный ресурс]. URL:(https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282) (дата обращения 07.02.2023)
Из представленной диаграммы (рис. 1) [22] видно, что моногорода активно теряют населения, а значит, являются непривлекательными в том числе и с экономической точки зрения. Поэтому актуальны задачи развития и вывода из кризиса моногородов.
В 2014 году Президент России Владимир Владимирович Путин совместно с Правительством Российской Федерации определили стратегическую задачу по диверсификации и развитию экономики моногородов путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, таким образом уже в октябре 2014 года была создана некоммерческая организация «Фонд развития моногородов», где в качестве учредителя выступил Внешэкономбанк.
В 2016 году президиумом Совета при Президенте Российской Федерации была утверждена «Приоритетная программа Комплексного развития моногородов» [23], где Министерством экономического развития для Фонда развития моногородов были разработаны следующие критерии показателей эффективности:
– Количество моногородов, получивших поддержку за счёт субсидии;
– Количество вновь созданных рабочих мест;
– Объём привлечённых инвестиций в моногорода, получившие поддержку за счёт субсидии;
– Количество инвестиционных проектов, в реализации которых участвует Фонд.
Согласно паспорту программы, планируемый срок реализации программы – с ноября 2016 года по декабрь 2025 года. По вновь созданным рабочим местам ставилась задача снижения зависимости моногородов от градообразующих предприятий и достижения к 2018 году показателя в 230 тысяч трудоустроенных, которые не были бы привязаны к градообразующему предприятию.
По данным Отчёта коллегии Счётной палаты РФ (26 марта 2019 г.) о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и оценка хода реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» [24], по состоянию на 1 января 2019 года было создано 406,5 тыс. рабочих мест при плановом значении 230 тыс. рабочих мест, общий объем привлеченных инвестиций – 1,8 трлн. рублей при плановом значении 170 млрд. рублей. Но более детальный аудит мероприятий приоритетной программы на предмет своевременности, полноты и эффективности её реализации показал, что устойчиво положительные результаты не достигнуты, а предусмотренные показатели и используемые методики расчёта этих показателей формируют искажённую картину. Специалисты Счётной палаты сделали обоснованный вывод, что программа развития не улучшила жизнь населения на территории моногородов, и цели диверсификации экономики моногородов не были достигнуты, таким образом 1 января 2019 года программа завершилась.
Далее в 2019 году Правительством совместно с Минэкономразвития России был подготовлен новый проект госпрограммы развития моногородов на 2019 - 2024 гг. с планируемым объёмом бюджетных средств 57,3 млрд. руб. [25].
Целевые индикаторы и показатели новой госпрограммы:
– Количество новых постоянных рабочих мест за счет прямой финансовой поддержки некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», нарастающим итогом;
– Количество новых постоянных рабочих мест, созданных резидентами территорий опережающего развития (далее ТОР), тыс. ед. (нарастающим итогом);
– Количество новых постоянных рабочих мест, созданных юридическими лицами, реализующими новые инвестиционные проекты в рамках механизма возмещения инвестору части затрат на реализацию проекта в пределах объема уплаченных им налоговых платежей, нарастающим итогом;
– Объем инвестиций в моногородах за счет прямой финансовой поддержки Фонда развития моногородов, млрд руб. (нарастающим итогом);
– Объем привлеченных инвестиций в моногорода резидентами ТОР, млрд руб. (нарастающим итогом);
– Объем инвестиций, привлеченных юридическими лицами, реализующими новые инвестиционные проекты на территориях моногородов в рамках механизма возмещения инвестору части затрат на реализацию проекта в пределах объема уплаченных им налоговых платежей, нарастающим итогом;
– Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры в моногородах, в рамках поддержки Фонда (нарастающим итогом);
– Количество инвестиционных проектов, в реализации которых участвует Фонд, (нарастающим итогом);
– Количество соглашений о взаимодействии (сотрудничество) с целью обеспечения стабильного развития моногородов;
– Количество резидентов ТОР.
Ожидаемые результаты реализации госпрограммы к 2024 году:
– Количество резидентов ТОР в моногородах составит не менее 1000 ед.;
– Количество новых рабочих мест, созданных резидентами ТОР, составит не менее 43 тыс. ед.;
– Объем инвестиций, осуществленный резидентами ТОР, составит не менее 60 млрд. рублей;
– Создан механизм оказания государственной поддержки предпринимательской деятельности и социально-экономического развития моногородов путем возмещения части затрат на реализацию проекта в пределах объема уплаченных им налоговых платежей;
– Созданы условия для повышения инвестиционной привлекательности моногородов, создание новых рабочих мести и привлечение инвестиций в моногорода;
– Реализованы проекты по активизации участия градообразующего предприятия в развитии города, его социальной, культурной и экономической 10 жизни;
– Проведены мероприятия не менее чем в 300 моногородах к 2024 году по консультационной и методологической поддержке реализации инвестиционных и социальных проектов;
– Заключено не менее 100 соглашений о взаимодействии (сотрудничество) с целью обеспечения стабильного развития моногородов.
На специальные меры поддержки инвесторов, развитие необходимой инфраструктуры монопрофильных муниципальных образований в 2022 году из федерального бюджета было запланировано направить дополнительно 450https://creativeconomy.ru/journals/ce/publication млн рублей, а всего на проекты развития моногородов – более 2,9 млрд рублей, распоряжение от 03 марта 2022 года № 399-р подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. [26]
Таким образом, с учётом задач оперативного характера по решению социально-экономических проблем в моногородах, мы наблюдаем тенденцию к обоснованности и корректировке принимаемых решений с дальнейшей фокусировкой на наиболее сложных направлениях.
Моногорода арктической зоны представляют собой ещё большую проблему, т.к. вероятность проявления социально-экономических рисков в них ещё выше, в том числе этому способствуют особые условия Арктической зоны: экстремальный климат, удаленность от экономических центров, неразвитость транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, что удорожает стоимость жизни и затраты местных бюджетов, обостряет социальные проблемы, ограничивает возможности развития предпринимательства и внедрения инноваций [27], и всё это усугубляется узкой направленностью рынка труда, завязанной на градообразующем предприятии, что крайне усложняет диверсификацию экономики депрессивных территорий и улучшение условий жизни населения.
26 октября 2020 г. вышел Указ Президента РФ от N 645 "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года" [28]. Стратегия описывает главные цели, задачи и пути экономического развития, такие как создание новых наукоёмких производств, а также модернизация уже действующих предприятий, развитие туристской инфраструктуры, модернизация первичного звена здравоохранения, повышение доступности социальных услуг и пр.
Моногорода АЗ РК
В АЗ РК находится шесть муниципальных образований, что составляет порядка 38% всей территории региона – Костомукшский, Кемский, Лоухский, Беломорский, Сегежский и Калевальский районы (В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020г. No193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации») [29], из них в перечень монопрофильных муниципальных образований входят три населенных пункта – г. Костомукша (ОАО «Карельский окатыш», добыча железной руды и производство окатышей), г. Сегежа и п.г.т. Надвоицы Сегежского района (АО «Сегежский ЦБК», производство целлюлозы и бумаги) [30].
Одним из инструментов по диверсификации экономики моногорода, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций является создание территорий опережающего социально-экономического развития ( далее ТОСЭР). ТОСЭР как инструмента преимущественного освоения территории, дает резидентам конкурентные преимущества перед другими предприятиями той же отрасли, не включенными в данную территорию [31].
В Республики Карелия сформировано три территории опережающего социально-экономического развития, созданные в монопрофильных муниципальных образованиях, из которых две находятся в АЗ РК - ТОСЭР «Костомукша» [32] и ТОСЭР «Надвоицы» [33]. Резиденты ТОСЭР Арктической зоны Республики Карелии получают преференции для ведения своей хозяйственной деятельности в рамках особого правового режима [34], что позволяет им существенно минимизировать свои издержки в части налоговых расходов (табл. 4).
Таблица 4
Преференции резидентов ТОСЭР получаемые в рамках особого правового режима осуществления предпринимательской деятельности на 2022 г.
|
Наименование
налога
|
ТОСЭР
|
Без
ТОСЭР
|
|
Налог на прибыль
|
5%
|
20%
|
|
Российская Федерация
|
0%
|
2%
|
|
Республика Карелия
|
5%
|
18%
|
|
Налог на землю (муниципальное образование)
|
0%
|
в среднем 1,5%
|
|
Налог на имущество организаций (Республика Карелия)
|
0%
|
2,2%
|
|
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
(Российская Федерация)
|
7,6%
|
30%
|
Резидентами ТОСЭР могут стать юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории моногорода, не являющиеся дочерними компаниями градообразующего предприятия. К инвестиционным проектам устанавливаются требования по достижению следующих показателей в течении первого года после включения юридического лица в реестр ТОСЭР:
– Создание не менее 10 рабочих мест;
– Осуществление капитальных вложений не менее чем на 2,5 млн.https://creativeconomy.ru/journals/ce/publication рублей;
– Не предусматривается исполнение контрактов (работ и услуг) с градообразующим предприятием и его дочерними компаниями, если объём полученной выручки составляет более чем 50 % от всего объёма полученной выручки в процессе реализации инвестиционного проекта;
– Запрещается привлекать иностранную рабочую силу в количестве более 25% от общего числа официально трудоустроенных.
Постановлениями Правительства Российской Федерации [32,33] определены виды экономической деятельности, при осуществлении которых на территории опережающего развития действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности при реализации резидентами инвестиционных проектов. Для ТОСЭР "Костомукша" таких видов деятельности 15, а для ТОСЭР "Надвоицы" - 19, при этом, только в первом случае в список таких видов экономической деятельности включено рыболовство и рыбоводство, однако отсутствуют резиденты ТОСЭР в этой области.
Согласно отчётным данным Министерства экономического развития и промышленности Карелии, по итогам 2021 года в п.г.т. Надвоицы [33] действует 3 резидента ТОСЭР, а в г. Костомукша – 8 [19], которыми суммарно создано 142 рабочих места. Согласно данным ФНС, суммарная среднесписочная численность работников по восьми действующим резидентам ТОСЭР «Костомукша» составляет 83 человека. Вероятно, возникающая разница с данными Минэкономразвития Карелии не является критичной, а указывает на то, что часть трудоустроенных является внешними совместителями, т.е. данная работа не является для них основной.
2. Рыбохозяйственный комплекс Республики Карелия.
Одним из направлений развития моногородов и монопоселений на территории АЗ РК является деятельность в области аквакультуры на внутренних водоёмах. Аквакультура — это разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях. Предприятия аквакультуры могут способствовать диверсификации экономики моногородов за счет создания новых производств и снижению зависимости от градообразующих предприятий, а также могут способствовать решению социальных проблем: создание новых рабочих мест, повышение занятости населения, сохранение высококвалифицированных кадров, улучшение качества жизни.
Аквакультура является одним из важнейших и активно развивающихся направлений сельского хозяйства. Республика Карелия располагает благоприятными природно-климатическими условиями для развития аквакультуры, а близкое расположение к рынкам сбыта создает хорошие возможности для организации конкурентноспособного бизнеса. В Республике накоплен технологический опыт и сформировался рыбохозяйственный комплекс индустриального выращивания товарной рыбы, куда входят рыбоводные хозяйства по производству товарной продукции и посадочного материала, а также предприятия, перерабатывающие и реализующие готовую рыбопродукцию [35].
На основании данных Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) (рис. 2) в 2021 году объем производства продукции товарной аквакультуры (включая производство (выращивание) посадочного материала) Российской Федерации составил 356,6 тысяч тонн, увеличив результат предыдущего 2020 года на 28 тыс. тонн (8,5 %), и улучшив, таким образом, показатель за последние 10 лет более, чем в 2 раза [36].
Рис. 2. Динамика объёма производства продукции
товарной аквакультуры РФ, 2020 - 2021.
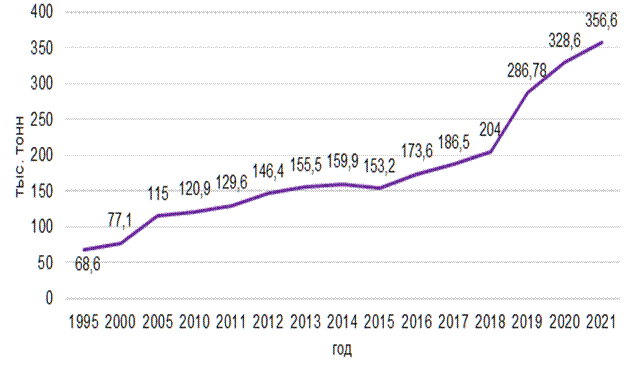
Источник: Данные Федерального агентства по рыболовству [Электронный ресурс]. URL:(https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/2022/03/kollegiya_itogi_2021_zadachi_2022.pdf) (дата обращения 07.02.2023)
В Росрыболовстве по объёмам производства аквакультуры за 2021 год отмечают лидирующие позиции Северо-Западного федерального округа - 111,01 тыс. тонн с приростом производства за год в 18,9 % (с 93,4 тыс. тонн 2020 года до 111,01 тыс. тонн в 2021 году).
Деятельность по выращиванию рыбы в Карелии в 2021 году осуществляли 73 предприятия аквакультуры, в том числе 4 предприятия по выращиванию мидии на акватории Белого моря; основным объектом аквакультуры является форель (более 99%), в небольших объемах выращивается сиг и осётр, на Белом море - мидии; выращено 34,9 тыс. тонн разновозрастной рыбы (96,3% к уровню 2020 года), в том числе 24,4 тыс. тонн товарной рыбы (92,1% к 2020 году). Снижение объемов выращивания связывается с экстремально высокими температурами в летний период, негативно повлиявшими на процессы выращивания рыбы. На Белом море выращено 30 тонн мидии (в 5 раз больше уровня 2020 года) [36].
3. Экономический эффект действующего предприятия аквакультуры
В качестве примера рассмотрим совокупный экономический эффект по трём действующим на территории Республики Карелия форелеводческим хозяйствам (табл. 5). Данные приводятся на основании открытых данных Федеральной налоговой службы [1] по итогам деятельности за 2021 г. Для неразглашения информации которая может составлять коммерческую тайну названия компаний не указываются, а параметры экономического характера такие как объём производства, среднесписочная численность работников, уплаченные налоги и сборы, суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской отчётности организации округляем в большую сторону. Введем обозначения размерности предприятий как «Среднее предприятие», «Малое предприятие» и «Микропредприятие» в соответствии с классификацией ФНС.
Таблица 5
Совокупный экономический эффект по трём действующим на территории Республики Карелия форелеводческим хозяйствам
|
Сведения о субъекте МСП
по итогам за 2021 г. |
Объём производства товарной продукции
(тонн / год) |
Средне-
списочная численность работников (чел.) |
Налоги
и сборы |
Сумма
Доходы |
Сумма
Расходы |
|
(млн. руб. / год)
| |||||
|
Микро
|
100
- 300
|
12
|
4
|
63
|
27
|
|
Малое
|
от 500 до 700
|
20
|
18
|
142
|
121
|
|
Среднее
|
2000 и более
|
130
|
111
|
912
|
704
|
|
Итого по трём хозяйствам (совокупный
экономический эффект)
| |||||
|
Бюджетный эффект (сумма уплаченных налогов и сборов в бюджеты
всех уровней и внебюджетные фонды)
|
134
| ||||
|
Социально-экономический эффект (сумма среднесписочной
численности работников по всем хозяйствам)
|
162
| ||||
[Электронный ресурс]. URL:(https://pb.nalog.ru) (дата обращения: 07.02.2023)
Сравним эти два показателя социально-экономического эффекта:
– 3 предприятия аквакультуры (форелевые хозяйства) сумма среднесписочной численности работников - 162 чел;
– 8 предприятий ТОСЭР «Костомукша» (действующие резиденты) сумма среднесписочной численности работников - 83 чел.;
Существенный перевес в пользу предприятий аквакультуры обусловлен тем, что в рассмотрение включено одно из крупнейших форелеводческих предприятий Республики Карелия со среднесписочной численностью работников 130 человек.
Вышеизложенное показывает перспективу получения потенциального социально-экономического эффекта от внедрения практики деятельности предприятий аквакультуры на территории моногородов АЗ РК. С точки зрения диверсификации экономики моногорода на создание такого предприятия может потребоваться несколько лет с начала реализации проекта, что может вызывать обоснованные опасения о получении совокупного экономического эффекта в запланированной перспективе, но данная ситуация компенсируется тем, что уровень спроса на продукцию аквакультуры существенно превышает предложение, а перспектива использования налоговых преференций ТОСЭР дополнительно повысит эффективность компании. Дискуссионным вопросом остаётся то, что в процессе исследования мы не учитывали возможности сравнения экологических факторов деятельности резидентов ТОСЭР и предприятий аквакультуры, но данный аспект может стать одним из элементов в продолжении комплексного исследования в рамках научного проекта «Институциональный инжиниринг моногородов Арктической зоны – модернизация и устойчивое развитие».
4. Заключение
Аквакультура продолжает оставаться одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Карелия, в регионе работают программы бюджетного финансирования (субсидирования) расходов форелеводческих предприятий, связанных с внедрением современных ресурсосберегающих технологий, экологизации и проведением научно-исследовательских работ. В целом, общая тенденция указывает на благоприятные условия для предпринимательской деятельности в области форелеводства на территории АЗ РК.
В качестве авторских рекомендаций, стоит отметить, что включение на постоянной основе вида экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство» в перечень для кандидатов – будущих резидентов при формировании региональными властями, как новых ТОСЭР на территории АЗ РК, так и уже созданных, позволит привлечь новые источники финансирования, увеличить региональные доходы и стать дополнительным драйвером развития на пути диверсификации экономики моногородов за счёт получения совокупного экономического эффекта от деятельности предприятий аквакультуры.
[1]Прозрачный бизнес (https://pb.nalog.ru)
References:
Agarkov S.A. (2022). Osobennosti prostranstvennoy organizatsii innovatsionnyh protsessov v arkticheskom regione: vyzovy i zadachi sovremennosti [Spatial organization of innovative processes in the Arctic region: challenges and tasks of modernity]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (3). 1759-1786. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.3.116273.
Aleksandrov E., Dybtsyna E., Grossi G, Bourmistrov A. (2022). Rankings for smart city dialogue? Opening up a critical scrutiny Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. (5). 622–643. doi: 10.1108/JPBAFM-03–2021–0059.
Bjerke L., Mellander C. (2017). Moving Home Again? Never! The Locational Choices of Graduates in Sweden The Annals of Regional Science. (59). 707–729.
Druzhinin P.V. (2020). Features of Population Distribution in Russia and Finland: Impact of Geographical Factors and Universities. Region Ekonomika i Sociologya. (3). 165–189. doi: https://doi.org/10.15372/REG20200307.
Fauzer V. V. (2013). Demograficheskiy potentsial severnyh regionov Rossii kak faktor ekonomicheskogo osvoeniya Arktiki [The demographic potential of Russia's northern regions as a factor of the economic development of the Arctic]. Arktika i Sever. (10). 19-47. (in Russian).
Fauzer V. V., Smirnov A.V., Fauzer G.N. (2021). Demograficheskaya otsenka ustoychivogo razvitiya malyh i srednikh gorodov rossiyskogo Severa [Demographic assessment of the sustainable development of small and medium-sized cities of the Russian North]. Economy of the region. (2). 552–569. (in Russian). doi: 10.17059/ekon.reg.2021–2–14.
Gubina O.V., Provorova A.A. (2019). Sootnoshenie demograficheskikh i innovatsionnyh prioritetov strategicheskogo razvitiya regionov Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii [Correlation of demographic and innovative priorities of strategic development of the Arctic regions of the Russian Federation]. Russian Journal of Innovation Economics. 9 (2). 383-400. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.2.40600.
Khodachek I. A., Delva K. I., Galustov K. A. (2020). Umnye goroda na Kraynem Severe: sravnitelnyy analiz Arkhangelska, Budyo, Murmanska i Tromsyo [Smart Cities in the High North: A Somparative Analysis of Arkhangelsk, Bodø, Murmansk and Tromsø]. Gorodskie issledovaniya i praktiki. (1). 57–79. (in Russian). doi: 10.17323/usp51202057–79.
Larchenko O. V. (2017). Territorii operezhayushchego sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya kak novaya organizatsionnaya forma razvitiya regiona (na primere Respubliki Kareliya) [Territories of advanced social and economic development as a new organizational form of development of the region (on the example of the Republic of Karelia)]. Studia Humanitatis Borealis. (2). 30–35. (in Russian).
Maslennikova A. Yu., Katvitskaya Yu. S. (2019). Tsifrovaya ekonomika kak drayver razvitiya monogorodov Sverdlovskoy oblasti [Digital economy as a driver of development of single-industry towns in the Sverdlovsk region]. Agrarian Bulletin of the Urals. (9(188)). 81–90. (in Russian). doi: 10.32417/article_5daf430 5e77416.50295829.
Matvienko I.I. (2020). Analiz innovatsionnogo razvitiya regionov Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii [Analysis of innovative development of the Arctic zone regions in the Russian Federation]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (1). 307-324. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.1.100663.
Mikryukov N. Yu. (2016). Faktory, problemy i modeli razvitiya monogorodov Rossii [Factors, Problems, and Models of Monocity Development in Russia] (in Russian).
Nikulkina I.V., Filimonova L.M., Zolotov E.Yu. (2023). Drayvery rezilentnosti arkticheskikh poseleniy: na primere Arkticheskoy zony Respubliki Sakha (Yakutiya) [Drivers of arctic settlements' resilience: on the example of the Arctic zone of the Republic of Sakha (Yakutia)]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (1). 61-74. (in Russian).
Nikulkina I.V., Gordyachkova O.V., Kalavriy T.Yu., Vanderlinden Zh.P. (2022). Rezilentnost sotsialno-ekonomicheskikh sistem: metodologicheskiy aspekt [Socio-economic systems resilience: methodological aspect]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 659-668. (in Russian). doi: Rezilentnost sotsialno-ekonomicheskikh sistem: metodologicheskiy aspekt.
Petrov A. (2010). Post-Staple Bust: Modeling Economic Effects of Mine Closures and Post-Mine Demographic Shifts in an Arctic Economy (Yukon) Polar Geography. (33(1-2)). 39–61. doi: https://doi.org/10.1080/1088937X.2010.494850.
Pitukhina M. A., Belyh A. D. (2022). Perspektivy razvitiya monogorodov rossiyskoy Arktiki [Prospects for the development of single-industry towns in the Russian Arctic]. Population. (4). 189-200. (in Russian). doi: 10.19181/population.2022.25.4.16.
Selin V.S. (2010). Ekonomicheskiy krizis i ustoychivoe razvitie severnyh territoriy [The Economic Crisis and Sustainable Development of Northern Territories]. Sever i rynok: formirovanie ekonomicheskogo poryadka. (1(25)). 20-25. (in Russian).
Shiklomanov N., Streletskiy D., Suter L., Orttung R., Zamyatina N. (2020). Dealing with the Bust in Vorkuta, Russia
Törmä H., Kujala S., Kinnunen J. (2015). The Employment and Population Impacts of the Boom and Bust of Talvivaara Mine in the Context of Severe Environmental Accidents – A CGE Evaluation Resources Policy. (46(2)). 127–138. doi: https://doi.org/10.1016/j. resourpol.2015.09.005.
Volkov A.D. (2021). Mirovoy opyt primeneniya ekonomiko-pravovyh rezhimov i ego ispolzovanie v prostranstvennoy organizatsii ekonomiki Arkticheskogo regiona [World experience of economic and legal regimes and its application in the spatial organization of the Arctic region]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (6). 1389-1404. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.6.112298.
Zamyatina N.Yu., Pilyasov A.N. (2017). Novoe mezhdistsiplinarnoe nauchnoe napravlenie: arkticheskaya regionalnaya nauka [Concept of proximity: foreign experience and prospects of application in Russia]. Regional Research of Russia. (3(95)). 3-30. (in Russian). doi: Region: Ekonomika i Sotsiologiya.
Страница обновлена: 31.05.2025 в 03:35:35
