The impact of digitalization on the sustainability potential of an industrial enterprise
Arkhipova T.V.1, Sidorenko M.G.1
1 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Russia
Download PDF | Downloads: 36 | Citations: 3
Journal paper
Creative Economy (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку
Volume 16, Number 6 (June 2022)
Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48778337
Cited: 3 by 30.01.2024
Abstract:
The article discusses the impact of digitalization on the sustainability potential of Russian industrial enterprises, which, as a result of foreign policy aggravation, are experiencing significant difficulties and are in a state of maximum uncertainty. To analyze the relationship between the sustainability indicators of an industrial enterprise and digitalization indicators, methods of calculating relative values, studying correlation, and a graphical method were used. The following factorial features are considered: the digitalization index of business, the proportion of organizations that have used digital technologies, the proportion of organizations in the areas of using technologies for collecting, processing and analyzing big data, and indicators of the number of IT personnel at different levels. It is concluded that the introduction of IT technologies and digital business processes at enterprises contribute to the launch and activation of self-organizational processes that have a significant impact on the growth of their sustainability potential.
Keywords: digitalization, enterprise, potential, digital technologies, sustainable development
JEL-classification: L26, M21, M11, O31
Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что цифровизация охватывает практически все отрасли экономики и сферы жизни общества. В условиях настоящего экономического и геополитического кризиса, жестких ограничений и санкционной блокады цифровизация все же дает шанс промышленным предприятиям избежать коллапса, установить более тесные отношения с новыми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве с Россией, активизировать импортозамещение. В настоящее время существует множество исследований, посвященных данному вопросу и раскрывающих его различные стороны [9-11, 16-19, 26-28]. Проблемы устойчивости на макро- и микроэкономическом уровнях экономики в их взаимосвязи и специфике исследуются в работах: Л.И. Абалкина [1], А.И. Бородина и Н.Н. Киселевой [2], И. С. Глазьева [3], В.В. Леонтьева [4], А.Я. Лившица [5], Б.А. Райзерга [6], Т.В. Усковой [7], С.В. Чупрова [8] и т.д.
Целью данной статьи является исследование влияния процессов цифровизации на потенциал устойчивости промышленных предприятий.
Новизна: обоснована необходимость и выявлен потенциал разработки и внедрения нового подхода к исследованию влияния цифровизации на устойчивость промышленных предприятий, включающего качественный и количественный анализ уровня использования современных технологий на промышленных предприятиях, способствующих повышению их устойчивости и конкурентоспособности в условиях новых глобальных вызовов.
Авторская гипотеза: в условиях взятого курса на цифровизацию российской экономики, разработка эффективных методов оценки влияния уровня цифровизации на устойчивость промышленных предприятий позволит принимать более обоснованные управленческие решения и максимально использовать возможности цифровизации, открывающиеся благодаря внедрению новых технологий в промышленный сектор экономики.
Методами исследования выступили: группировка материалов статистического наблюдения, методы расчета относительных величин, изучения корреляционной связи, графический метод. В качестве факторных признаков рассмотрены - индекс цифровизации бизнеса, удельный вес организаций, использовавших цифровые технологии, удельный вес организаций по направлениям использования технологий сбора, обработки и анализа больших данных и показатели IT-кадров разного уровня.
Основная часть
Период 2020–2021 гг., следующий за пандемией COVID-19 и началом более интенсивного внедрения цифровых технологий в управленческую и экономическую деятельность, в данном контексте является наиболее перспективным для трансформации управленческого процесса из-за вынужденного эксперимента по перестройке бизнес-схем значительной части организаций [9, с. 1417]. Цифровые технологии бросают вызов традиционным границам фирм, меняют глобальные цепочки создания стоимости и географию рабочих мест [10, с. 303]. Цифровизация, внедрение подключенных устройств, технологий анализа данных и искусственного интеллекта для дальнейшей автоматизации процессов многими специалистами уже рассматриваются как наступившее сегодня [11, с. 100].
На промышленных предприятиях начали активно внедряться новые современные программно-аппаратные комплексы, передовые технологии, осваиваться выпуск высокотехнологичной продукции.
В результате началась цифровая трансформация, которая должна была обеспечивать внедрение современных технологий в системах разного уровня, причем, цифровизация нижнего уровня неизбежно приводит к повышению уровня цифровизации на верхних уровнях (рис.1).
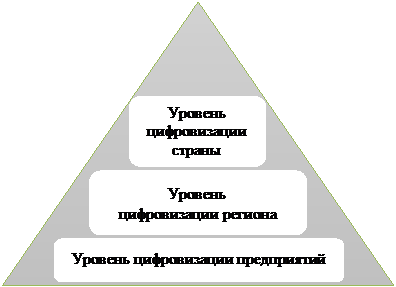
Рисунок 1 - Пирамида цифровой трансформации на разных уровнях
Источник: составлено авторами.
Соответственно внедрение цифровых технологий на промышленных предприятиях приводит к росту показателей цифровизации для регионов, и как следствие, для страны в целом.
В контексте происходящих экономических и геополитических изменений резко обострилась проблема обеспечения экономической безопасности и устойчивости отечественных промышленных предприятий, Понятие устойчивости относится к важнейшим характеристикам экономической динамики и рассматривается применительно к развитию всех субъектов хозяйствования [12, с. 30], вынужденных функционировать в условиях возросших рисков и угроз. На этом фоне представляется актуальным исследование потенциала устойчивости промышленных предприятий, начало исследований, которого положили представители неоклассической школы экономической теории.
Неоклассические идеи определяли отрасль использования категории «потенциал» в экономических исследованиях отечественных учений 20-30 гг. XX века в связи с изучением характера развития производительных сил и производственных отношений в обществе. Активное использование в научных трудах понятия «потенциал предприятия» началось в 70-80-х гг. XX века, когда увеличение темпов и объемов производства стали приоритетными для предприятий. В работах большинства советских исследователей того времени потенциал предприятия определяется через призму его возможностей максимизировать выпуск материальных благ или достичь определенного эффекта.
Развитие теории потенциала предприятия содержится во многих исследованиях советских ученых, что, безусловно связано с плановым характером экономики, предсказуемостью ее развития, Под потенциалом (от лат. potentia — сила) понимаются источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения каких-либо задач, достижения определенной цели [13]. Очевидно, что внедряемые цифровые технологии являются источником для совершенствования технологий производства, позволяют экономить сырье, рационально использовать производственные мощности, что положительно сказывается на возможностях промышленного предприятия.
Потенциалом организации принято считать «недоиспользованные, скрытые возможности накопленных ресурсов, которые могут быть приведены в действие для достижения целей экономических субъектов» [14].
В настоящей работе предметом исследования является потенциал устойчивости промышленного предприятия. С позиции теории самоорганизации потенциал устойчивости любой системы идентифицируется «как качественная характеристика ее способностей к изменениям, ведущим к повышению адаптационных возможностей, которые делают возможным переход организации из одного качественного состояния в другое, более устойчивое с точки зрения его экономических параметров, ведущее к прогрессу во всех других сферах его деятельности» [15].
В рамках данного исследования, под потенциалом устойчивости промышленного предприятия, мы будем понимать его качественную интегральную характеристику, которая отражает условия для реализации функций и задач, стратегических целей и состоит из различных видов потенциалов, таких как ресурсный, технологический, трудовой и т.д. (рис. 2).
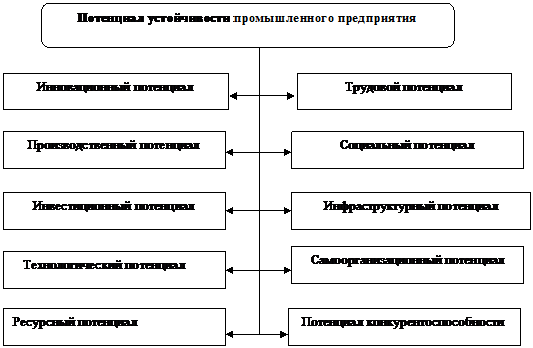
Рисунок 2 - Структура потенциала устойчивости промышленного предприятия
Источник: составлено авторами.
В современных условиях практически каждый структурный элемент потенциала устойчивости промышленного предприятия подвержен цифровой трансформации.
Барьеры, препятствующие цифровой трансформации предприятий, вызваны ограниченной кибербезопасностью, несанкционированным доступом, утечкой данных; трудностями в необходимости соответствия цифровым стандартам, нормам; ограниченностью поставщиков решений по новым технологиям; низкой компетентностью работников в сфере IT; проблемами с финансовыми ресурсами для инвестирования в цифровизацию, достаточной инфраструктуры для цифровизации, четкого представления выгоды от ее освоения [16, с. 56]. К типичным препятствиям реализации проектов внедрения цифровых решений относятся недостаточный уровень готовности к цифровизации, отсутствие полноты информации об объекте, явлении, недостаточность необходимых компетенций участников проекта, неэффективные бизнес-процессы и непредвиденные затраты [17, с. 2251].
Современные инструменты цифровизации позволяют оптимизировать время выполнения бизнес-процессов, структурировать приобретенные и накопленные знания, выстроить оперативное взаимодействие членов коллектива по актуальным производственным, организационным, сбытовым и пр. вопросам, обеспечивающим принятие оптимальных управленческих решений [18, с. 263]. Для повышения эффективности бизнес-процессов, информационного потенциала предприятиям необходимо взять на курс на цифровизацию внутренних бизнес-процессов [19, с. 1657].
С внедрением новых IT-технологий и цифровых бизнес-процессов запускаются самоорганизационные процессы в организации. Самоорганизация по своему содержанию предполагает свойство организаций самостоятельно обеспечивать действия, реализовать и активизировать процессы своего функционирования и развития на основе внутренней способности упорядочивать свои составные подсистемы и регулировать энергетические и информационные потоки, которыми она обменивается с внешней средой [20]. Содержательно самоорганизация включает в себя целый спектр процессов, таких как самоупорядочение, самообеспечение, самовоспроизведение и связанные с ними самоконструирование, самоизготовление, самообновление, самосовершенствование, самосохранение.
Современными учёными доказано, что системообразующим фактором для функционирующих организаций является их тенденция к самосохранению, физический смысл которой составляет организация и взаимодействие между их элементами в соответствии с принципом наименьшего действия или экономии энергии [21].
Самосохранение – характеристика способности системы поддерживать такие параметры своего функционирования и условий внутренней среды, которые гарантировали бы сохранение ее целостности, выполнение основных функций (включая репродуктивные), а также устойчивое развитие в будущем. Данное свойство включает несколько аспектов:
- необходимость предупреждения прямых угроз, обусловленных внутренними и внешними причинами (неплатежеспособность, снижение, доступности сырья и материалов, форс-мажорные обстоятельства и т.д.);
- необходимость предупреждения косвенных угроз, которые обусловлены преимущественно изменениями внешней среды (изменение или разрушение экономической системы в целом, стечение негативных обстоятельств, изменение политического курса, введение экономических санкций и т.д.).
Таким образом, к факторам самосохранения и устойчивого развития предприятия (организации) можно отнести: умеренную бюрократическую и налоговую систему в стране, оптимальный размер организации, соответствующую организационную структуру управления, профессионализм и «зрелость» персонала (в том числе IT-зрелость), наличие материальных, технических, цифровых и финансовых ресурсов, а также потенциала устойчивости.
И. Пригожин и Г. Николис отмечают: «Поиск устойчивого развития всегда играет роль естественного отбора» [22], следовательно, гарантом жизнеспособности и эффективной деятельности организации будет развитие потенциала ее устойчивости.
Результат внедрения цифровых технологий в бизнесе, а также скорость адаптации предприятий к цифровой трансформации можно оценить при помощи индекса цифровизации бизнеса (Business digitalization index). Данный индекс разработан совместно банком «Открытие», аналитическим центром НАФИ и Московской школой управления Сколково [23]. Индекс является интегральным показателем, учитывающим пять показателей:
· уровень использования каналов передачи и хранения информации (широкополосного интернета, мобильного интернета, облачных сервисов и другое);
· уровень интеграции цифровых технологий в бизнес-процессы (CRM-системы, чат-боты, автоматизированные решения для управления персоналом и другие);
· уровень использования интернет-инструментов для продвижения товаров и услуг (наличие сайта с информацией о компании, товарах и услугах, наличие и поддержка страниц в соцсетях, продвижение компании в поисковых системах и т.д.);
· уровень информационной безопасности (антивирусные программы, специальные программы и другие);
· уровень цифровых навыков персонала (организация обучения, проведение тренингов и т.д.).
Максимальное значение индекса, а также любого из входящих в него показателей – 100 процентных пунктов. В таблице 1 представлены значения индекса цифровизации бизнеса в 2019-2021 годах [24]. В связи с пандемией, локдауном и необходимостью перехода предприятиями на удаленный формат работы резко увеличился уровень интеграции цифровых технологий в бизнес, одновременно с этим произошло снижение уровня готовности к потенциальным цифровым угрозам и готовности бизнеса к обучению персонала цифровым технологиям (рисунок 3). Это можно быть вынужденной мерой, связанной с оптимизацией бюджетов внутри компаний и перенаправлением финансов между разными статьями расходов.
Таблица 1 Индекс цифровизации бизнеса в России (2019-2021 гг.)
|
Показатель
|
2 полугодие 2019
|
1 полугодие 2020
|
2 полугодие 2020
|
1 полугодие 2021
|
|
Каналы передачи и хранения
информации
|
57
|
59
|
66
|
65
|
|
Интеграция цифровых технологий
|
27
|
58
|
62
|
64
|
|
Использование интернет-инструментов
|
52
|
57
|
59
|
60
|
|
Информационная безопасность
|
54
|
41
|
37
|
38
|
|
Цифровые навыки (обучение)
|
36
|
33
|
28
|
26
|
|
Интегральный показатель индекса
цифровизации бизнеса
|
45
|
50
|
50
|
51
|
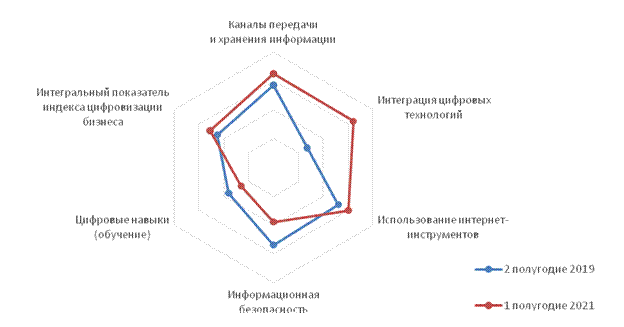
Рисунок 3 - Динамика изменения индекса цифровизации бизнеса и его компонентов в России
Источник: составлено авторами (на основе данных ПАО Банк «ФК Открытие» и Аналитического центра НАФИ) [24].
Процесс перехода промышленных предприятий к финальной стадии цифровой трансформации («умному производству») можно оценить при помощи показателей структуры. Для классификационной группировки видов экономической деятельности «Промышленность» на основе ОКВЭД2 представлены статистические данные за 2020 год, характеризующие удельный вес промышленных предприятий, использующих цифровые технологии (таблица 2) и технологии сбора, обработки и анализа больших данных для решения разных задач (таблица 3). Очевидным становится низкий уровень использования современных технологий на промышленных предприятиях, что свидетельствует о начальной стадии цифровой трансформации.
Таблица 2 - Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии (в процентах от общего числа обследованных организаций), в России в 2020 г.
|
Наименование цифровых технологий
|
Доля
организаций, %
|
|
Промышленные роботы /
автоматизированные линии
|
11,3
|
|
Технологии радиочастотной
идентификации объектов (RFID)
|
14,7
|
|
Интернет вещей
|
15,3
|
|
Геоинформационные системы
|
15,1
|
|
Цифровые платформы
|
15,4
|
|
Технологии сбора, обработки и анализа
больших данных
|
24,8
|
|
Технологии искусственного интеллекта
|
3,3
|
|
"Облачные" сервисы
|
23,9
|
Таблица 3 - Удельный вес организаций по направлениям использования технологий сбора, обработки и анализа больших данных (в процентах от общего числа обследованных организаций) в России в 2020 г.
|
|
Преимущест-венно для продаж и
маркетинга
|
Преимущест-венно для
производствен-ного процесса
|
Преимущест-венно для безопасности
|
Преимущест-венно для других целей
|
Не
используется
|
|
Данные, передаваемые между различным
оборудованием, считываемые с цифровых датчиков или радиочастотных меток и др.
|
1,4
|
5,2
|
1,0
|
0,7
|
91,6
|
|
Данные учетных систем предприятия,
таких как ERP, CRM, SCM, HRIS и т.п.
|
2,7
|
5,5
|
0,2
|
0,8
|
90,7
|
|
Данные геолокации, получаемые, в том
числе с использованием портативных устройств
|
1,4
|
3,4
|
0,8
|
0,7
|
93,5
|
|
Данные веб-сайта организации
|
5,7
|
2,4
|
0,1
|
0,9
|
90,7
|
|
Данные операторов сотовой связи
|
2,1
|
3,7
|
0,3
|
1,3
|
92,4
|
|
Данные, полученные из социальных сетей
|
3,3
|
2,0
|
0,1
|
0,9
|
93,5
|
|
Дистанционное зондирование Земли
|
0,5
|
1,4
|
0,0
|
0,1
|
97,7
|
|
Иные данные
|
1,0
|
2,0
|
0,1
|
0,8
|
95,9
|
Потенциал устойчивости предприятия зависит от IT-зрелости персонала. Без наличия профессиональных кадров высокого уровня невозможно внедрение новых передовых IT-технологий и модернизация производства, что снижает потенциал устойчивого развития предприятия. Для собирательной классификационной группировки видов экономической деятельности «Промышленность» на основе ОКВЭД2 при помощи показателей структуры рассчитан удельный вес специалистов разного уровня от общего числа специалистов в России в 2020 г. (таблица 4).
Таблица 4 - Показатели численности IT-кадров разного уровня в России в 2020 г.
|
Группы специалистов
|
Всего, чел.
|
Для
экономической деятельности "Промышленность», чел.
|
Удельный вес специалистов группы, %
|
|
Численность
специалистов по информационным и коммуникационным технологиям:
|
769
718
|
128 897
|
17
|
|
в
том числе:
руководители служб и подразделений в сфере информационно -коммуникационных технологий |
93 407
|
17 617
|
19
|
|
специалисты
высшего уровня квалификации
|
398 038
|
58 308
|
15
|
|
специалисты
среднего уровня квалификации
|
226 041
|
36 080
|
16
|
|
монтажники и ремонтники
электронного и телекоммуникационного оборудования
|
52 232
|
16 892
|
32
|
Следует отметить особо важную роль процессов цифровизации в промышленном секторе экономики. Достижение эффекта синергии в условиях цифровизации промышленности требует построения сбалансированной промышленной политики, в содержании которой учитываются интересы ключевых стейкхолдеров (экономических и неэкономических субъектов) [26, с. 505]. Ряд передовых предприятий переходит на автоматизированное цифровое производство, основанное на массовом внедрении интеллектуальных систем управления и киберфизических систем, использовании облачных вычислений, масштабной автоматизации бизнес-процессов, распространении искусственного интеллекта и Интернета вещей.
Многие исследователи отмечают, что, несмотря на большое число интегральных показателей для оценки уровня цифровизации экономики, «на сегодняшний момент не существует единой и общепринятой методики по определению уровня цифровизации промышленного сектора экономики» [27]. Поэтому несмотря на то, что сегодня не вызывает сомнений влияние цифровизации на потенциал устойчивости социально-экономических систем (промышленных предприятий и регионов), выявить эту зависимость при помощи числовых показателей не представляется возможным.
Заключение
Процесс цифровизации российской промышленности отстает от темпов ведущих стран. Задержка России в освоении цифровых технологий, по разным оценкам, составляет около 5–10 лет, что обусловлено, в том числе, негативным влиянием санкций, которые затруднили доступ к передовым зарубежным технологиям [28]. Кроме этого, факторами, сдерживающими цифровизацию отечественных промышленных предприятий являются низкий технологический уровень и уровень автоматизации, недостаточный уровень IТ-грамотности кадров, недостаточная доступность финансовых ресурсов и технологий.
Таким образом, дальнейшая цифровизация промышленных предприятий будет способствовать формированию современной производственной сферы, способной быстро и гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды, противостоять санкционным ограничениям, новым вызовам и угрозам и, в конечном итоге, будет способствовать повышению потенциала устойчивости промышленных предприятий.
References:
Abalkin L.I. (1994). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: ugrozy i ikh otrazhenie [Economic security of Russia: threats and their reflection]. Voprosy Ekonomiki. (12). 4-16. (in Russian).
Abdrakhmanova G.I., Vishnevskiy K.O., Gokhberg L.M. i dr. (2021). Tsifrovaya transformatsiya otrasley: startovye usloviya i prioritety [Digital transformation of industries: starting conditions and priorities] M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. (in Russian).
Afonasova M.A. (2009). Innovatsionnaya modernizatsiya rossiyskoy ekonomiki: regionalnyy aspekt [Innovative modernization of the Russian economy: regional aspect] Tomsk: Tomsk. gos. un-t sistem upr. i radiotekhniki. (in Russian).
Aubakirova G.M., Isataeva F.M. i dr. (2020). Tsifrovizatsiya promyshlennyh predpriyatiy Kazakhstana: potentsialnye vozmozhnosti i perspektivy [Digitalization of industrial enterprises in kazakhstan: potential opportunities and prospects]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (4). 2251-2268. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.4.111211.
Batkovskiy A.M. (2011). Metodologicheskie problemy sovershenstvovaniya analiza finansovoy ustoychivosti predpriyatiya radioelektronnoy promyshlennosti [Methodological problems of improving the analysis of financial stability of electronic industry]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (1(1)). 30-44. (in Russian).
Borodin A.I., Kiseleva N.N. (2011). Regionalnye ekonomicheskie sistemy i ikh ustoychivost [Regional economic systems and their stability]. Bulletin of Udmurt University. (4). 67-73. (in Russian).
Chuprov S.V. (2010). Razvitie sredstv upravleniya ustoychivostyu promyshlennyh predpriyatiy v usloviyakh innovatsionnoy modernizatsii [Development of sustainability management tools for industrial enterprises in the context of innovative modernization]. MIR (Modernization. Innovation. Research). (4). 20-23. (in Russian).
Frolov V.G., Kaminchenko D.I. (2021). Aprobatsiya aktorno-deyatelnostnoy modeli soglasovaniya interesov ekonomicheskikh i neekonomicheskikh subektov promyshlennoy politiki v usloviyakh tsifrovizatsii [Approbation of the actor-activity model of coordinating the interests of economic and non-economic subjects of industrial policy amidst digitalization]. Leadership and management. (4). 503-520. (in Russian). doi: 10.18334/lim.8.4.113877.
Frolov V.G., Trofimov O.V., Martynova T.S. (2020). Formirovanie mekhanizma razvitiya promyshlennogo predpriyatiya v usloviyakh tsifrovizatsii [Formation of a mechanism for the development of an industrial enterprise in the conditions of digitalization]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (8). 2243-2261. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.8.110719.
Glazev S.Yu., Fetisov G.G. (2013). O strategii ustoychivogo razvitiya ekonomiki Rossii [On the strategy of sustainable development of Russia’s economy]. Ekonomicheskie i sotsialnye peremeny: fakty tendentsii, progno. (1(25)). 23-35. (in Russian).
Kokurin D.I. (2001). Innovatsionnaya deyatelnost [Innovative activity] M.: Ekzamen. (in Russian).
Krakovskaya I.N. (2022). Transformatsiya zanyatosti v promyshlennosti v usloviyakh tsifrovizatsii: predposylki i napravleniya [Transformation of employment in industry amidst digitalization: prerequisites and directions]. Russian Journal of Labor Economics. 9 (1). 97-112. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.1.114006.
Leontev V.V. (1990). Ekonomicheskie esse. Teorii, issledovaniya, fakty i politika [Economic essays. Theories, research, facts and politics] M.: Politizdat. (in Russian).
Livshits A.Ya. (1992). Gosudarstvo v rynochnoy ekonomike [The state in a market economy]. Russian Economic Journal. (11). 123-125. (in Russian).
Melnik L.G. (2010). Nauchnye osnovy samoorganizatsii ekonomicheskikh sistem. Chast 1 [Scientific foundations of self-organization of economic systems. Part 1]. Mekhanizm regulirovaniya ekonomiki. 1 (3). 8-9. (in Russian).
Nikolis G., Prigozhin I. (1990). Poznanie slozhnogo [Cognition of the complex] M.: Mir. (in Russian).
Poddubnyy N.V. (2003). Metodologicheskie i ontologicheskie aspekty samoorganizuyushchikhsya sistem [Methodological and ontological aspects of self-organizing systems] M.: Rossiyskaya akademiya gosudarstvennoy sluzhby. (in Russian).
Rayzberg B.A. (1993). Rynochnaya ekonomika [Market economy] M.: Delovaya zhizn. (in Russian).
Savchenko V.N., Smagin V.P. (2006). Nachala sovremennogo estestvoznaniya: tezaurus [The Beginnings of Modern Natural Science: Thesaurus] Rostov-on-Don: Feniks. (in Russian).
Shpilyova A.A. (2021). Protsessy tsifrovizatsii v kompaniyakh malogo i srednego biznesa v usloviyakh pandemii [Digitalization processes in small and medium-sized businesses in the context of a pandemic]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (2). 299-312. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.2.111637.
Soloveva I.P., Kupriyanova M.V. (2020). Obzor zarubezhnyh i otechestvennyh metodik otsenki urovnya tsifrovizatsii [A review of foreign and national approaches for evaluating the level of digitization] Actual problems of management, economics and economic security. 125-130. (in Russian). doi: 10.31483/r-96267.
Trubacheev E.V. (2021). Sovershenstvovanie upravlencheskogo protsessa v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki [Improving the management process amidst digitalization]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (4). 1415-1426. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.4.113883.
Uskova T.V. (2009). Upravlenie ustoychivym razvitiem regiona [Managing the sustainable development of the region] Vologda: ISERT RAN. (in Russian).
Volkodavova E.V., Zhabin A.P. (2020). Povyshenie effektivnosti promyshlennogo setevogo biznesa za schet tsifrovizatsii protsessa komandoobrazovaniya [Improving the efficiency of industrial network business by digitalizing the team building process]. Leadership and management. 7 (2). 257-270. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.2.100798.
Zakharova E.V., Mityakova O.I. (2020). Otsenka innovatsionnogo potentsiala predpriyatiya s uchetom tsifrovizatsii ekonomiki [Assessment of the innovative potential of the enterprise taking into account the digitalization of the economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (3). 1653-1666. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.3.110601.
Страница обновлена: 28.04.2025 в 05:22:28

 Russia
Russia