Sustainable development model and enterprises' investment attractiveness: environmental aspect
Aleksandrov G.A.1![]() , Vyakina I.V.1
, Vyakina I.V.1![]() , Skvortsova G.G.1
, Skvortsova G.G.1![]()
1 Тверской государственный технический университет, Russia
Download PDF | Downloads: 31 | Citations: 10
Journal paper
Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку
Volume 12, Number 2 (February 2022)
Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48122555
Cited: 10 by 30.01.2024
Abstract:
In the implementation of the sustainable development concept, investment processes should be considered in the aspect of ensuring economic and social progress, rational use of natural resources and environmental protection. At the same time, it is necessary to pay attention to the internal objective contradiction inherent in this concept between, on the one hand, economic consequences and, on the other hand, social and environmental ones. This contradiction manifests itself in the fact that economic entities pursuing primarily economic goals perceive the need to spend on measures to protect the environment as quite real restrictions and barriers for their investment activities. This study aims to consider and evaluate the impact of environmental factors on the enterprises' investment attractiveness, which is an essential prerequisite for making an adequate investment decision. It is assumed that state regulation and the updated legislative framework at the federal level can influence the stimulation of the business community to form new economic models in the real economy that are combined with the goals of sustainable development. In this period of time, environmental factors are a possible threat to industrial enterprises, generating new restrictions on entrepreneurial activity.
Keywords: enterprise's investment attractiveness, sustainable development goals, environmental factors, environmental payments
Funding:
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00124.
JEL-classification: M11, M21, Q01, Q56
Введение
В современных условиях инвестиционные процессы должны соответствовать целям устойчивого развития. Предприятия как первичные звенья национальной экономики обусловливают привлекательный инвестиционный климат на всех иерархических уровнях экономической системы, которая, в свою очередь, формирует экономически безопасную и инвестиционно привлекательную среду (бизнес-экосистему), в которой создаются, функционируют и развиваются первичные звенья экономики.
Вместе с тем необходимо определиться, что понимается под устойчивым развитием, поскольку, как отмечается исследователями [1, с. 6] (Kudryavtseva et al., 2021, р. 6), трактовки понятия «устойчивое развитие» (sustainable development) в России и в мире весьма различны. Зачастую устойчивое развитие ассоциируется, прежде всего, с экономическим ростом, отражаемым в увеличении ВВП. В противоположность этому основателями концепции устойчивого развития оно интерпретируется как гармоничное и сбалансированное развитие социальных, экономических и экологических процессов [2] (Alexandrov, Vyakina, Skvortsova, 2021).
Соблюдение баланса между решением экономических и социальных проблем, а также проблем сохранения окружающей среды, т.е. между всеми подсистемами в модели устойчивого развития территории, представляется достаточно сложным делом. Развитие каждой из подсистем (иерархических уровней) характеризуется и проявляется по-разному, в зависимости от ситуации и наличия конкретных факторов, имманентно присущих данному иерархическому уровню.
Например, очевидно, что для реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года и достижения цели устойчивого развития «Хорошее здоровье нации» предпочтительнее и полезнее употреблять натуральные (экологически чистые) продукты, а не пищевые продукты современной индустрии, технологически модифицированные. И здесь имеют место объективные противоречия. Во-первых, экологическое земледелие в России представлено мелкими и средними производителями, которые не смогут «накормить» все население страны. Во-вторых, производство натуральных продуктов, на органических удобрениях, будет в разы дороже, и часть населения, особенно малоимущая категория, не сможет себя прокормить. Данный пример показывает, что в соответствии с целями устойчивого развития (ЦУР), решая вопрос «Хорошее здоровье нации», остается нерешенным вопрос «Ликвидация голода».
Американские исследователи Куан Донг, Ян-Минг Чанг [3] (Dong, Chang, 2020), сравнивая два инструмента контроля за загрязнением окружающей среды (единые налоги и абсолютные стандарты), когда компании, загрязняющие окружающую среду, заключают соглашения о частичной собственности, делают вывод о том, что несмотря на улучшение качества окружающей среды (поскольку выбросы сокращаются) и увеличение прибыли предприятий, одновременно, как следствие, наблюдается снижение социального благосостояния, т.е. имеет место дисбаланс подсистем модели устойчивого развития.
Несмотря на популярность концепции устойчивого развития, особенно в последние годы, интерес к ней порождается множеством новых вопросов и подходов, которые требуют всестороннего исследования. Разработка проблемы необходимости разрешения объективных противоречий, возникающих между экономическими интересами хозяйствующих субъектов, с одной стороны, и интересами в обеспечении экологических целей устойчивого развития, с другой, является не только актуальной, но и принципиально новой, поскольку экологическая модернизация становится массовым явлением, и в этом отношении внешнее воздействие экологических факторов на предпринимательскую деятельность становится необратимым процессом.
Основываясь на том, что в наших исследованиях инвестиционная привлекательность предприятия рассматривается с позиций влияния не только внутренних факторов, но и внешних, которые формируют инвестиционный климат на отраслевом, региональном и страновом уровне [4, с. 74, 5] (Aleksandrov, Vyakina, Skvortsova et al., 2020, р. 74; Aleksandrov, Vyakina, Skvortsova, 2020), сформировалась цель – исследование экологических факторов в аспекте их влияния на инвестиционную привлекательность хозяйствующих субъектов.
Авторская гипотеза заключается в том, что хозяйствующие субъекты, преследующие, прежде всего, экономические цели, воспринимают экологические цели устойчивого развития как вполне реальные ограничения и барьеры при осуществлении ими инвестиционной деятельности.
Экологические платежи и экологическая ответственность производителей
Влияние экологических факторов на инвестиционную привлекательность промышленных предприятий всегда учитывалось, но в последнее время их роль в формировании инвестиционной привлекательности объектов инвестирования стремительно возрастает, в том числе и под влиянием концепции устойчивого развития.
Понятно, что предприятия в разной степени воздействуют на окружающую среду, что в конечном счете может иметь существенное значение при принятии решения по инвестированию соответствующего проекта, в том числе и с позиций того, окажет ли последний влияние на окружающую среду, а если окажет, то какое и в какой мере оно может быть предотвращено или смягчено и какие необходимо будет для этого задействовать технические и финансовые ресурсы.
В предыдущих исследованиях [6, с. 173–174, 7] (Aleksandrov, Vyakina, Skvortsova, 2014, р. 173–174; Alexandrov, Skvortsova, 2021) мы уже отмечали, что в Российской Федерации оценка и возмещение вреда (ущерба), причиненного окружающей природной среде, природным ресурсам, здоровью населения, а также различным субъектам хозяйственной деятельности, регламентируется широким перечнем нормативных и методических документов, утвержденных на федеральном и региональном уровне. На федеральном уровне – около 70 нормативных документов. Общие принципы оценки и возмещения вреда и убытков (экономического ущерба) содержатся в Гражданском кодексе РФ, в Федеральном законе «Об охране окружающей среды».
В остальных нормативно-методических документах принципы возмещения ущерба и вреда уточняются, дополняются в зависимости от категории природного ресурса или компонента природной среды. К таким документам относятся: Лесной кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О животном мире» и др.
Документы регионального уровня, как правило, являются развитием документов, имеющих федеральный статус, с учетом местных особенностей. Большая часть этих документов включают вопросы стоимостной оценки размеров ущерба, порядка его компенсации, а также полномочий должностных лиц и государственных органов в данной сфере деятельности.
В соответствии с вышеуказанными нормативными документами негативное воздействие на окружающую среду нужно оплачивать. Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия действует без малого два десятка лет. За это время в него неоднократно вносились различные изменения, но базовые положения остались практически неизменными.
В настоящее время, в соответствии с проведением российской экологической политики, применяются:
- сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов (глава 25.1 [8]);
- экологический сбор (статья 24.5 [9]);
- утилизационный сбор (24.1 [9]);
- плата за негативное воздействие на окружающую среду (статья 16 [10]).
Далее в статье экологические налоги и неналоговые платежи будем называть экологическими платежами.
Существует мало исследований, посвященных эффективности применения экологических платежей. Среди экспертов нет единого мнения о том, как влияют экологические платежи на мотивацию или, наоборот, демотивацию экономических субъектов на выполнение целей устойчивого развития.
По мнению Р. Мухаммад Захид и др., «экологические платежи могут увеличивать цены на энергию и природное сырье, что в конечном счете приводит к снижению доступности товаров и услуг для отдельных групп населения. Такая ситуация не соответствует принципам устойчивого развития, особенно, когда речь идет о развивающихся странах» [11] (Muhammad Zahid, Zeeshan, Diogo, Majid, Shaoan, 2022).
Петрик Рунст и Дэвид Хеле [12] (Runst, Hohle, 2022) утверждают, что одним из преимуществ экологического налогообложения является прозрачность, позволяющая странам добиваться эффективного и устойчивого экономического роста. Кроме того, экологические налоги и неналоговые платежи вносят вклад в решение вопросов финансирования мероприятий по охране окружающей среды. Тем не менее необходимы дополнительные независимые исследования для анализа влияния экологических налогов на глобальную эффективность, особенно в долгосрочной перспективе.
Французские исследователи [13] (Hassan, Oueslati,Rousseliere, 2020) выявляют взаимосвязь между налогами, связанными с окружающей средой, и темпами экономического роста, при этом отмечают существенные отличия в этой взаимосвязи между странами, которые внедрили реформы экологического налогообложения (ETRs), и странами, которые этого не сделали.
По мнению М.А. Любарской и др. [14] (Lyubarskaya, Ilyina, Ipatova, 2022), при введении экологических платежей необходимо учитывать их эффективность с экономической и экологической точки зрения. Например, при слишком низкой ставке платы на загрязнение окружающей среды экономическим субъектам выгоднее заплатить налог, чем предпринимать действия по сокращению загрязнений. Слишком высокая ставка экологических платежей приводит к тому, что экономические субъекты начинают уклоняться от их уплаты всеми законными и незаконными способами.
Валид Уэслати [15] (Oueslati, 2014) рассматривает макроэкономические последствия реформы экологического налогообложения в условиях растущей экономики. Показывает, что в ответ на увеличение налогов на окружающую среду предприятия сокращают выбросы за счет снижения выпуска конечной продукции. Отмечает, что независимо от сценариев налоговой реформы, в краткосрочном периоде последствия реформы снижают благосостояние.
В последние годы достаточно часто обсуждалась концепция корпоративной социально-экологической ответственности (КСЭО), которая отражает добровольное участие компаний в улучшении жизни общества и особенно в защите окружающей среды и в целом в организации зеленой экономики, существенно снижающей риски деградации окружающей среды. Понятно, что участие объекта инвестирования в реализации этих задач является важным фактором, характеризующим его инвестиционную привлекательность. Такое участие обусловлено готовностью и способностью предприятия выполнять установленные экологические требования к производственной деятельности, а также и обязательства по возмещению экономического ущерба, наносимого окружающей среде и здоровью населения в результате ее загрязнения. Для предприятия такие требования, как экологическая обстановка и экологические нормативы, являются объективными факторами, регламентирующими его деятельность.
В настоящее время наблюдается противоречивое отношение ученых и практиков к концепции корпоративной социально-экологической ответственности.
Например С.С. Скараник [16] (Skaranik, 2020), рассматривая экологическую ответственность в практике корпоративного управления крупнейших российских компаний, делает выводы о том, что «...многие российские компании не только признают свою ответственность за риски возникновения экологических проблем, но и активно осуществляют мероприятия по рациональному природопользованию с целью минимизации угроз их возникновения» [16] (Skaranik, 2020).
Напротив, А.О. Меланченко, Д.С. Петченко [17] (Melanchenko, Petchenko, 2020) отмечают, что современные российские бизнесмены недооценивают роль охраны окружающей среды для устойчивого развития бизнеса и в большей своей части стремятся не раскрывать какую-либо экологическую информацию. «Даже самые крупные промышленные компании, которые обязаны обеспечивать охрану окружающей среды, в среднем тратят на это меньше 2% от их ежегодной выручки за исключением «Норильского никеля» (4,4%)» [17, с. 159–160] (Melanchenko, Petchenko, 2020, р. 159–160). Предприятия не ощущают давления со стороны государства, и обязательные мероприятия, признанные законом, могут восприниматься как тяжкий груз.
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что уровень добровольного участия крупных промышленных компаний в защите окружающей среды и в организации зеленой экономики пока недостаточный для достижения целей устойчивого развития. Выполняя все регламентируемые требования, связанные с защитой и охраной окружающей среды, бизнес-сообщество не готово финансировать решение экологических проблем из собственной прибыли, что в общем-то естественно и соответствует рыночным отношениям.
Государственное регулирование и новые модели экономики
Как отмечалось ранее, на инвестиционную привлекательность предприятия оказывают влияние внешние факторы, которые формируют инвестиционный климат на региональном и страновом уровне.
Рассмотрим, насколько решаемые регионами задачи экологического характера соотносятся с концепцией устойчивого развития. Каждый регион нашей страны развивается в соответствии с утвержденной Стратегией развития до 2030 года, которая направлена на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития.
Стратегия не является документом «прямого действия», а лишь основой для разработки стратегических планов развития отдельных областных министерств и ведомств. Наличие стратегии позволяет отвечать на ключевые вопросы: кто, что, зачем, когда и какими силами делает. В теоретическом плане при формировании стратегии определяются не только социальные и экономические цели, но и экологические, индустриальные. Другой вопрос, как реализуются эти цели: полноценно или формально?
Например в Стратегии социально-экономического развития Тверской области в основе формирования стратегии п. 5(б) указано «обеспечение природосбережения и устойчивого развития территории» [1].
Более подробно планирование и решение вопросов природосбережения представлено в рамках национального проекта «Экология», в каждом регионе реализуются региональные программы и проекты. Планы большинства российских регионов по реализации национального проекта «Экология» в 2021 году сводятся к рекультивации полигонов и ликвидации несанкционированных свалок. Эти меры относятся к модели традиционной (линейной) экономики.
Отражением перехода к устойчивому развитию является формирование в реальной экономике новых моделей экономики зеленой экономики (green economy), циркулярной экономики (экономика замкнутого цикла) (circular economy), низкоуглеродной экономики (lowcarbon economy), «синей» экономики (blue economy) и др., в том числе и гибридных видов.
Именно модель экономики замкнутого цикла предполагает пересмотр традиционной (линейкой) модели экономики, преобразуя производство, потребление и переработку в единый замкнутый процесс и совместимость с концепцией устойчивого развития. Схемы моделей представлены на рисунках. Отметим, что попытки использовать замещение первичных ресурсов вторичными в традиционной экономике применяются давно, но в середине ХХ века преследовалась другая цель – снижение себестоимости производства, при этом предпринимателей не смущала высокая ресурсоемкость и большие количества не переработанных отходов.
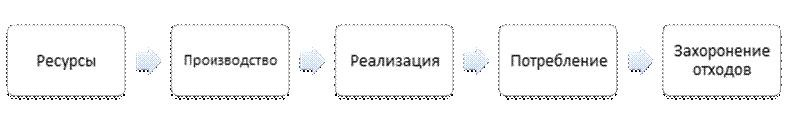
Рисунок 1. Модель линейной (традиционной) экономики
Источник: составлено авторами.
![]()
![]()
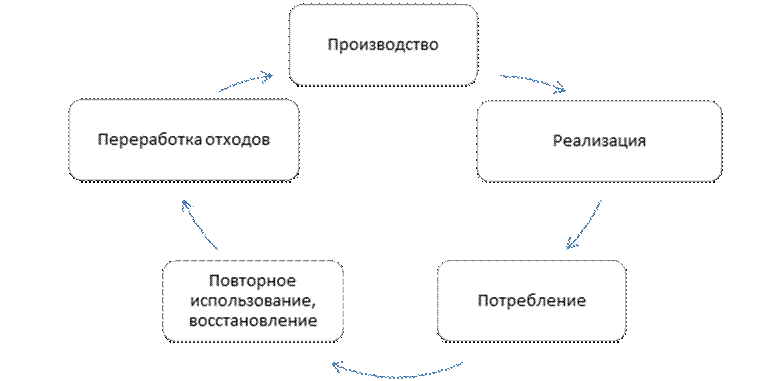
Рисунок 2. Модель экономики замкнутого цикла
Источник: составлено авторами.
Следует отметить, что в Стратегии [2] строительство новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий планируется по модели замкнутого цикла.
Изменения методов обращения с отходами не стимулирует существующая нормативная база и система тарифов. Предпринимателю дешевле заплатить экологический сбор, чем организовать доставку переработчику.
Приблизиться к созданию экономики замкнутого цикла – сократить образование твердых коммунальных отходов (ТКО), повысить уровень сбора, повторно использовать и перерабатывать отходы – позволит комплексно выстроенная система управленческих, технологических, экономических, нормативно-правовых элементов, в том числе с помощью механизма расширенной ответственности производителя (РОП). Суть его в том, что за утилизацию упаковки ответственность будут нести производители. Однако сейчас некоторые представители бизнеса затягивают сроки введения законопроекта [3]. По новым правилам, которые призваны мотивировать российский бизнес на прямые инвестиции в развитие инфраструктуры сбора и переработки отходов [4], производителям предложено три варианта:
1. Непосредственно самим организовать процесс сбора, переработки утилизации, создав собственную инфраструктуру.
2. Заключить договор с подрядчиком или оператором по обращению с ТКО.
3. Уплатить экологический сбор государству.
Практическая реализация механизма РОП должна начаться с 2022 года, однако из-за недовольства представителей бизнеса и из-за разногласий среди ведомств было решено отложить реализацию механизма и доработать в 2022 году. Готовятся поправки, дорабатывается законопроект, а механизм РОП, введенный в 2015 году, не работает. Тем не менее в мире есть положительные примеры и опыт.
Лидером среди стран СНГ является Беларусь, введен раздельный сбор и реализуется механизм РОП с 2012 года, за 2020 год уровень использования вторсырья составил 27% [5]. Стратегия Беларуси выстроена на опыте стран, которые добились наибольших успехов в сфере обращения с ТКО: Германия, Швейцария, Финляндии и др.
Мировым лидером выступает Германия, где механизм РОП действует уже более 20 лет и с помощью него переработка достигла 80% [6]. Для сравнения: в РФ перерабатывается лишь 5–7% отходов [7], остальная часть утилизируется путем захоронения на полигонах, и количество накопленных отходов растет.
Есть успешные примеры реализации РОП и в России, но их доля очень мала.
Товаропроизводители, например пластиковых бутылок, могут инвестировать в обеспечение утилизации своей продукции или платить за негативное воздействие на окружающую среду. По утверждению А. Гаркуша [18] (Garkusha, 2018), ставки экологического сбора по самым распространенным отходам тары и упаковки не соответствуют реальным затратам, а значительно меньше. Предпринимателю экономически выгоднее оплатить экосбор.
Для изменения ситуации в период подготовки перехода к экономике замкнутого цикла, прежде всего, необходимо:
– установить порядок исчисления и расходования экологического сбора. В настоящее время ставка экологического сбора низкая и, по экспертному мнению, не покрывает затраты на утилизацию отходов;
- дифференцировать ставки в зависимости от различных типов упаковок и товаров. Чем менее экологична упаковка или товар, тем выше должна быть ставка экологического сбора;
- сформировать информационную базу, включающую: перечень упаковки; реестр производителей и импортеров; перечень предприятий, занимающихся переработкой отходов (сведения о мощностях);
- разработать меры по стимулированию переработки товаров и упаковки. Например, государственная поддержка инвестиционных проектов по переоборудованию производства; прямой запрет на употребление видов товаров и упаковки, которые не могут быть переработаны во вторсырье.
Таким образом, государственное регулирование и обновленная законодательная база на федеральном уровне могут повлиять на стимулирование бизнес-сообщества к формированию в реальной экономике новых экономических моделей, которые сочетаются с целями устойчивого развития.
Проблемы внедрения в реальную экономику принципов устойчивого развития активно обсуждаются на дискуссионных площадках разного уровня не только учеными, но и бизнес-сообществом. Новые возможности для бизнеса, порождающие новые ограничения. Важно в период стремительных изменений и новых вызовов не остановить экономику и не увеличить нагрузку на бизнес.
Предприниматели осознают пользу принципов устойчивого развития, но масштабы изменений и смена технологического уклада пугают бизнес, и «... огромная часть бизнес-сообщества воспринимает такие изменения, как угрозу» [8].
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов опасается, что «...попытка внедрить эти принципы авторитарными палочным методами, что на «нашей почве» будет означать стремление бюрократии придумать себе новый фронт работ, который для бизнеса будет иметь только отрицательные последствия, вопреки благим намерениям.... Полагаю, что на начальном этапе бизнесу по этому направлению необходима реальная поддержка государства, в том числе – финансовая, законодательная и экспертная» [9].
Заключение
Промышленным предприятиям предстоит переход от глобальных целей устойчивого развития и уровня ООН в практическую плоскость. Пока еще внедрение принципов устойчивого развития у нас в стране носит точечный характер, и сами принципы не в полной мере осознаны как государством, так и бизнес-сообществом. Несмотря на то, что текущие задачи охраны окружающей среды решаются в режиме традиционной (линейной) экономики, новые проекты базируются на моделях замкнутого цикла. В данный период времени для промышленных предприятий экологические факторы являются возможной угрозой, порождающей новые ограничения предпринимательской деятельности.
Разработка методологических подходов, позволяющих разрешить объективные противоречия, возникающие между экономическими интересами хозяйствующих субъектов, с одной стороны, и интересами в обеспечении экологического развития общества, с другой, может составить основу дальнейших научных исследований.
[1] Стратегия социально-экономического развития Тверской области до 2030 года. // Гарант. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/16357500/ (дата обращения: 06.01.2022).
[2] Стратегия социально-экономического развития Тверской области до 2030 года. // Гарант. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/16357500/ (дата обращения: 06.01.2022).
[3] Бизнес получил разъяснения о РОП на площадке Минприроды. [Электронный ресурс]: URL:https://www.mnr.gov.ru/press/news/biznes_poluchil_razyasneniya_o_rop_na_ploshchadke_minprirody/ (дата обращения 24.01.2022).
[4] Бизнес получил разъяснения о РОП на площадке Минприроды. [Электронный ресурс]: URL:https://www.mnr.gov.ru/press/news/biznes_poluchil_razyasneniya_o_rop_na_ploshchadke_minprirody/ (дата обращения 24.01.2022).
[5] Российский экологический оператор. Обмен опытом: как устроена система обращения с отходами в Беларуси. [Электронный ресурс]. URL:https://reo.ru/tpost/jrbg7x5831-obmen-opitom-kak-ustroena-sistema-obrasc (дата обращения: 24.01.2022).
[6] Как Германия стала одним из пионеров в области утилизации вторсырья / Российская газета - Спецвыпуск №123(8177) от 08.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2020/06/08/germaniia-stala-odnim-iz-pionerov-v-oblasti-utilizacii-vtorsyria.html (дата обращения: 29.01.2022).
[7] Отходы в России мусор или ценный ресурс? Сценарии развития сектора обращения с твердыми коммунальными отходами (Итоговый отчет). [Электронный ресурс]. URL:http://biotech2030.ru/wp-content/uploads/2018/04/Othody-v-RF.pdf (дата обращения: 29.01.2022).
[8] Конгресс «ESG-(P) Эволюция» 14.10.2021 [Электронный ресурс]. URL:https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/61795da79a79471970d672cc (дата обращения: 06.01.2022).
[9] Как три буквы изменили бизнес: о чем говорили на первом ESG-конгрессе. [Электронный ресурс].URL:https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/61795da79a79471970d672cc (дата обращения: 06.01.2022).
References:
Aleksandrov G.A., Vyakina I.V., Skvortsova G.G. (2014). Formirovanie investitsionno privlekatelnogo klimata regiona: kontseptsiya, diagnostika, innovatsii [Formation of an investment-attractive climate in the region: concept, diagnostics, innovations] M.: Ekonomika. (in Russian).
Aleksandrov G.A., Vyakina I.V., Skvortsova G.G. (2020). Metodologiya diagnostirovaniya i otsenki vzaimosvyazi: ekonomicheskaya bezopasnost - investitsionnaya privlekatelnost predpriyatiya [Methodology for diagnosing and evaluating the relationship between economic security and investment attractiveness of the enterprise]. Journal of International Economic Affairs. 10 (3). 919-936. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.3.110858 .
Aleksandrov G.A., Vyakina I.V., Skvortsova G.G. i dr. (2020). Privlekatelnost investitsionnogo klimata i investitsionnye riski: metodologiya, metody diagnostiki [Attractiveness of the investment climate and investment risks: methodology, diagnostic methods] M.: Kreativnaya ekonomika. (in Russian).
Alexandrov G.A., Skvortsova G.G. (2021). Investment attractiveness of enterprise and sustainable development of industrial region 2021 ural environmental science forum on sustainable development of industrial region. doi: 10.1051/e3sconf/202125806009.
Alexandrov G.A., Vyakina I.V., Skvortsova G.G. (2021). Assessment of the Factors of Investment Attractiveness of the Business Environment in Terms of Sustainable Development of the Region International scientific forum on sustainable development and innovation (wfsdi 2021). 01043. doi: 10.1051/e3sconf/202129501043.
Dong Q., Chang Y.-M. (2020). Emission taxes vs. environmental standards under partial ownership arrangements Research in Economics. 74 (3). 250-262. doi: 10.1016/j.rie.2020.07.005.
Garkusha A. (2018). Uzko, shiroko i eshche shire. Rasshirennaya otvetstvennost proizvoditelya — kak eto rabotaet [Narrow, wide and even wider. Extended manufacturer responsibility: how it works]. Ekologiya i pravo. (72). 2223. (in Russian).
Hassan M., Oueslati W.,Rousseliere D. (2020). Environmental taxes, reforms and economic growth: an empirical analysis of panel data Economic Systems. 44 (3). 100806. doi: 10.1016/j.ecosys.2020.100806.
Kudryavtseva O.V. i dr. (2021). Ustoychivoe razvitie territoriy [Spatial sustainable development] M.: Ekonomicheskiy fakultet MGU imeni M.V. Lomonosova. (in Russian).
Lyubarskaya M.A., Ilyina L.A., Ipatova D.A. (2022). Vliyanie ekologicheskikh platezhey na ustoychivoe razvitie territorii: rossiyskiy i zarubezhnyy opyt [The impact of environmental payments on the sustainable development of the territory: Russian and foreign experience] The current state of the Russian economy: challenges, opportunities, risks. 109-113. (in Russian).
Melanchenko A.O., Petchenko D.S. (2020). Ekologicheskaya napravlennost korporativnoy sotsialnoy otvetstvennosti v Rossii na sovremennom etape [Environmental orientation of corporate social responsibility in Russia at the present stage]. Sotsialnoe predprinimatelstvo i korporativnaya sotsialnaya otvetstvennost. 1 (4). 151-168. (in Russian). doi: 10.18334/social.1.4.111909.
Muhammad Zahid R., Zeeshan F., Diogo F., Majid I., Shaoan H. (2022). Exploring the heterogenous impacts of environmental taxes on environmental footprints: An empirical assessment from developed economies Energy. 238 121-132. doi: 10.1016/j.energy.2021.121753 .
Oueslati W. (2014). Environmental tax reform: Short-term versus long-term macroeconomic effects Journal of Macroeconomics. 40 190-201. doi: 10.1016/j.jmacro.2014.02.004.
Runst P., Hohle D. (2022). The German eco tax and its impact on CO2 emissions Energy Policy. 160 112-126. doi: 10.1016/j.enpol.2021.112655.
Skaranik S.S. (2020). Ekologicheskaya otvetstvennost v sovremennoy praktike korporativnogo upravleniya rossiyskikh kompaniy [Ecological responsibility in the modern practice of corporate governance of russian companies]. Economy of construction. (2(75)). 15-23. (in Russian). doi: 10.37279/2519-4453-2020-2-15-23 .
Страница обновлена: 26.06.2025 в 18:40:39

 Russia
Russia