Measuring poverty: possibilities of applying the Western European experience in Russia
Ermakova E.R.1![]()
1 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, Russia
Download PDF | Downloads: 42
Journal paper
Economic security (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку
Volume 4, Number 4 (October-December 2021)
Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=47146454
Abstract:
Today, poverty is one of the global problems. The attention of not only individual States, but also of the public and international organizations (institutions) is focused on solving global problems.
The phenomenon of poverty as a multidimensional socio-economic phenomenon is the object of this study. The subject of the study is a variety of methods used to measure the level of poverty in Europe and Russia. The purpose of the research is to conduct a comparative analysis of the Russian and European levels of poverty by various parameters with further justification of the possibility of applying the European experience in fighting poverty in Russia.
The research is based on an integrated and systematic approach to the study of the nature and level of poverty. These methods provide an opportunity to take into account the maximum number of aspects when measuring multidimensional poverty. In the course of the research, general scientific methods of cognition (scientific abstraction, unity of historical and logical, comparisons, analogies, analysis and synthesis), as well as special methods of economic science ("zone" theory) were used.
The official data provided by the Federal and territorial bodies of the Federal State Statistics Service, Eurostat, World Bank reports, Euromonitor Database reviews, Swissbank were used as the information base of the study.
The study revealed the advantages and disadvantages of monetary approaches to measuring poverty. A comparative analysis of the relative poverty levels in Europe and Russia is carried out.
The results of the analysis show that our country is significantly lagging behind even the countries of Southern and Eastern Europe
The "zone theory" to assess the severity of the problem of poverty in Russia by such indicators as the poverty coefficient, the deficit of monetary income, the share of income of the 10% of the poorest in the total national income was implemented. The values of the corresponding indicators in Western European countries are taken as threshold values. All indicators belong to the danger zone: according to the indicator "poverty coefficient", Russia falls into the zone of critical risk (close to catastrophic). This confirms the need to develop targeted measures to combat poverty in Russia
ACKNOWLEDGMENTS:
The article was prepared within the framework of project No. 620244-EPP-1-2020-1-RU-EPPJMO-MODULE «EU: Development without excessive inequality as a movement to equality in opportunities» (implemented with the financial support of the ERASMUS+ Programme of the European Union).
Keywords: poverty, European monetary approaches to measuring poverty, Russian poverty profile, international organizations (institutions)
Funding:
Статья подготовлена в рамках проекта № 620244-EPP-1-2020-1-RU-EPPJMO-MODULE «EU: Development without excessive inequality as a movement to equality in opportunities» (реализуемого при финансовой поддержке ERASMUS+ Programme of the European Union).
JEL-classification: I31, I32, I38
Введение. На сегодняшний день проблема бедности носит глобальный характер: она присуща не только государствам Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, но и развитым во многих отношениях странам: США, странам Европы, «новым азиатским тиграм», Китаю, Индии, России.
Свободное перемещение рабочей силы и политика «открытых дверей», проводимая до недавнего времени многими странами, привели к тому, что более половины (60%) крайне бедных людей расселены в странах со средним уровнем дохода и выше.
Миграционный кризис, проявившийся в 2014–2016 гг., в Европе продемонстрировал опасность ассимиляции и чрезмерной открытости: вместе с потоком легальных и нелегальных беженцев в страны Европы хлынули выходцы из Ливии, Сирии, Туниса, Ирака, Афганистана и других стран африканского побережья. Ежегодно в период с 2014 г. по 2018 г. Европа предоставляла убежище более чем по 1 млн мигрантов, принимая вместе с ними риски распространения преступности, инфекционных заболеваний, эксклюзии, подставляя тем самым под удар собственную социально-экономическую стабильность. При этом миграционная нагрузка неравномерно распределялась внутри самого Евросоюза – первая страна Евросоюза, в которую прибыл беженец, была ответственна за предоставление ему необходимых условий для жизни. В результате еще больше обострилась проблема «Север – Юг», присущая Европейскому союзу, так как первичными странами прибытия являлись Греция, Италия и страны «Балканского маршрута». В настоящее время Евросоюз ужесточил миграционную политику, приняв решение ограничить поток мигрантов. Однако кризис уже свершился и проявил себя многогранно, в т. ч. отразился на проблеме бедности европейского населения.
Мигранты уязвимы и с точки зрения монетарного подхода – их доход существенно уступает доходу коренных европейцев, и с позиции депривационного подхода – у них ограничен доступ к рынку труда из-за низкой квалификации и языкового барьера, к услугам здравоохранения – в силу отсутствия медицинской страховки. При этом мигранты имеют сильное влияние на региональные рынки труда: избыток дешевой силы сбивает равновесную цену, отчего страдают и местные участники рынка труда, формирующие предложение на нем.
Проблема бедности в России носит более глубокий характер и распространяется не только на социально уязвимые группы населения, но и на «экономически активное население» [5] (Karavaeva, Bukhvald, Soboleva, Kolomiets, Lev, Ivanov, Kazantsev, Kolpakova, 2019). Профиль российской бедности описывается таким беспрецедентным явлением, как «работающий бедный», что в принципе недопустимо в европейском сообществе.
Принимая во внимание тот факт, что по всем мировым рейтингам наша страна не является бедной, к сожалению, по уровню бедности она не входит даже в первые 50 стран мира.
Проблему бедности искоренить полностью не видится возможным, она существовала на разных этапах развития цивилизации и приковывала внимание не только общественных деятелей, но и научное сообщество. Так, А. Смит [14] (Smit, 2007) в своем самом известном произведении предпринимает одну из первых попыток осмысления бедности: «ни одно общество… не может процветать…, если значительная часть его членов бедна…». Хотя некоторые другие выдающиеся представители школы классической политической экономии не считали нужным заниматься проблемой бедности на государственном уровне [11, 9] (Rikardo, 1955; Maltus, 2008). В XVIII в. набирает силу школа утопического социализма (К. Сен-Смон, Ж. Сисмонди), отстаивающая необходимость социальной защиты бедняков.
В работах К. Маркса [10] (Marks, 1955) и Ф. Энгельса [17] (Engels, 1960) вопросы социального и классового равенства приобрели первостепенное значение, этими учеными предложена первая типология бедности. Экономическая мысль XX века обращена к проблемам бедности – это демонстрируют работы Дж. Сакса [13] (Saks, 2011), А. Сена [21] (Sen, 1981). Среди отечественных ученых, сосредоточивших внимание на данной проблеме, можно отметить А.Я. Кируту, А.Ю. Шевякова [11] (Rikardo, 1955), А.Г. Агангебяна [1] (Agangebyan, 2020). Нобелевской премии по экономике в 2019 г. удостоились А. Банерджи и Э. Дюфло [19] (Duflo, 2012) (Массачусетский технологический институт), а также М. Кремер (Гарвардский университет) за «экспериментальные подход к борьбе с глобальной бедностью».
«Чрезмерная бедность российского населения является серьезным препятствием экономического развития страны» [7] (Lev, 2021). Большая часть бедного населения приходится на работающих людей (в 2015 г. на их долю приходилось 63,8%). Данные выборочных исследований показывают, что риск бедности присущ одной трети населения страны в случаях утраты работы, рождения детей, выхода на пенсию, приобретения инвалидности.
До января текущего года уровень бедности в России определялся на основе абсолютного подхода – к числу бедных российская статистика относила людей с доходом ниже прожиточного минимума (табл. 1).
Таблица 1
Население РФ с доходом ниже прожиточного минимума
|
Параметры
|
2000
|
2005
|
2010
|
2016
|
2020
|
|
Численность
населения с доходом ниже прожиточного минимума, млн человек
|
42,3
|
25,4
|
17,7
|
21,4
|
18,1
|
|
В %
к численности населения страны (абсолютная бедность)
|
29,9
|
17,8
|
12,5
|
14,6
|
12,3
|
Среди плюсов такой методики можно отметить только простоту ее применения, недостатков же у нее множество – она не принимает во внимание средний уровень доходов в обществе, не отражает степень доступности основных благ, предоставляя лишь возможность оценить дефицит денежного дохода в обществе (табл. 2). В развитых странах среди монетарных подходов измерения бедности преобладают относительные подходы. Абсолютный подход отвергнут ими как искажающий и упрощающий реальную картину сложного явления. Относительный порог отсечения бедных в каждой стране свой – в США он принят на уровне 40% медианного дохода, в европейских странах черта бедности пролегает на уровне 60% от медианного дохода или на уровне 50% среднедушевых доходов по стране [2, 18] (Vedikhina, Karasik, 2015; Carter, 2009).
Таблица 2
Дефицит денежного дохода в РФ
|
Года
|
Численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума
|
Дефицит денежного дохода
|
Величина прожиточного минимума
(руб. в мес.) | ||
|
млн человек
|
в % от общей численности населения
|
руб.
|
в % от общего объема доходов населения
| ||
|
1992
|
49,3
|
33,5
|
0,4 трлн
|
6,2
|
1,9 тыс.
|
|
1995
|
36,5
|
24,8
|
34,9 трлн
|
3,9
|
264 тыс.
|
|
2000
|
42,3
|
29,0
|
199,2 млрд
|
5,0
|
1210
|
|
2005
|
25,4
|
17,8
|
288,7 млрд
|
2,1
|
3018
|
|
2010
|
17,7
|
12,5
|
375,0 млрд
|
1,2
|
5686
|
|
2013
|
15,5
|
10,8
|
417,9 млрд
|
0,9
|
7306
|
|
2015
|
19,5
|
13,3
|
700,5 млрд
|
1,3
|
9701
|
|
2019
|
18,1
|
12,3
|
721,7 млрд
|
1,2
|
10890
|
Медианный и модальный доход органы российской статистики исчислять начали с 2013 г. (табл. 3).
Таблица 3
Медианный и модальный доходы в России
|
Года
|
Среднедушевой доход всего населения
(руб. в месяц)
|
Медианный среднедушевой доход (Ме) (руб.
в месяц)
|
Модальный среднедушевой доход (руб. в
месяц)
|
Справочно: соотношение со среднедушевым
денежным доходом
|
Величина прожиточного минимума (руб. в
месяц)
|
Соотношение величины прожиточного
минимума и среднего дохода, %
| |
|
Медианы, %
|
Моды, %
| ||||||
|
2013
|
25684,4
|
19036,3
|
10457
|
74,1
|
40,7
|
7306
|
28,4
|
|
2014
|
27412,4
|
20392,4
|
11285,2
|
74,4
|
41,2
|
8050
|
29,4
|
|
2015
|
30254,4
|
22605,1
|
12619,5
|
74,7
|
41,7
|
9701
|
32,1
|
|
2016
|
30865
|
23057,8
|
12868,3
|
74,7
|
41,7
|
9828
|
31,8
|
|
2017
|
31896,5
|
23870,2
|
13368,5
|
74,8
|
41,9
|
10088
|
31,6
|
|
2018
|
33178,1
|
24755,5
|
13782
|
74,6
|
41,5
|
10287
|
31
|
|
2019
|
35249,3
|
26365,3
|
14750,1
|
74,8
|
41,8
|
10890
|
30,9
|
Начиная с 2021 г. Россия отказалась от абсолютного подхода к определению бедности и установила уровень бедности 44,2% медианного дохода (прожиточный минимум). Это своего рода первый шаг в сторону наиболее адекватной оценки уровня бедности и отказа от попыток статистически замаскировать проблему.
Попытка применения к российской практике методики расчета относительной бедности Западной Европы и Скандинавских стран свидетельствует о «замалчивании» проблемы бедности в российском государстве (рис. 1).
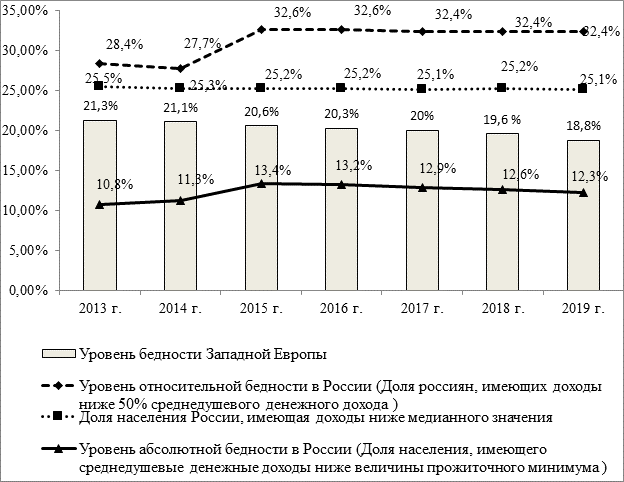
Рисунок 1. Уровень бедности Западной Европы и России 2013–2019 гг.
Источник: составлено автором на основе Росстат, Евростат, Euromonitor.
Так, если за порог бедности принять условно уровень 60% от медианного среднедушевого денежного дохода, можно определить, что четвертая часть населения России «относится к категории бедных» [4, с. 149] (Kazantsev, Kolpakova, Lev, Sokolov, 2021, р. 149). В Европе каждый пятый житель попадает в эту группу населения. Графики на рисунке 1 демонстрируют тенденцию к снижению уровня относительной бедности в странах Западной Европы. В России, несмотря на сокращение уровня абсолютной бедности, показатель относительной бедности стабилен и колеблется в диапазоне 25,3% ± 0,2% на протяжении семи исследуемых лет.
Рисунок 2 демонстрирует колоссальный разрыв (почти в 8 раз) между уровнями медианного дохода в России и Западной Европе. Более того, российский медианный уровень отстает даже от средней медианы в целом по миру. Акцентируем также еще раз внимание на том, что при указанном разрыве в странах Западной Европы уровень относительной бедности установлен в 60% от медианного дохода, а в России – 44,2%.
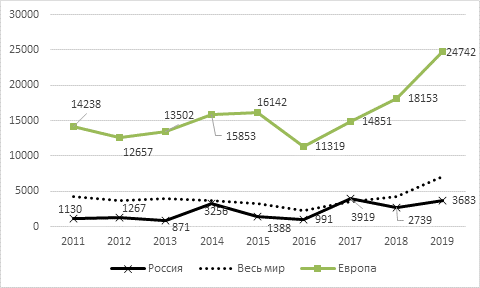
Рисунок 2. Медианное благосостояние взрослого населения
в Европе и России, долл. США
Источник: Swissbank.
Установление черты относительной бедности на уровне 50% среднедушевого денежного дохода еще сильнее подчеркивает серьезность проблемы бедности в РФ. Доля населения с доходами ниже 50% среднедушевого денежного дохода увеличилась с 28,4% в 2013 г. до 32,4% в 2019 г. Согласно расчетам уровня относительной бедности по данной методике, каждый третий житель России может считаться бедным. Среднедушевой денежный доход в 2018 году не превышал 16 505 рублей, прожиточный минимум в 2018 года составлял 10 287 рублей, таким образом, 20% населения имели среднедушевые денежные доходы более 10 287 рублей, но менее 16 505 рублей. Таким образом, использование абсолютного подхода к измерению уровня бедности позволяло официальным органам статистики занизить черту бедности.
Факты статистического искажения действительности в отношении вопросов бедности населения имеют место. Так, к примеру, в июле 2020 г. в России провозгласили победу над крайней нищетой, не уточняя при этом, что в качестве коэффициента бедности принималось значение, разработанное экспертным сообществом для африканских стран (население с доходами менее 1,90 долл. в день).
Более 50% всего бедного населения в России – это люди трудоспособного возраста. Под категорию «работающий бедный» попадает 31% всего бедного населения, в их числе 0,8% работающих пенсионеров. Средним значением по странам Западной Европы бедного населения, занятого в экономике, насчитывается 7%, минимум фиксируется в Бельгии и Ирландии (4,8%).
Такая высокая доля «работающих бедных» отражает профиль российской бедности [3, 12] (Glazev, 2021; Roik, 2020).
Возрастная структура бедного населения в странах Западной Европы и России представлена на рисунке 3. Обратим внимание, что среди бедного населения доля лиц трудоспособного возраста (на рисунке это области светло- и темно-серого оттенков) в России и Западной Европе примерно одинакова (59,3% и 55,8% от общего числа людей, отнесенных к категории бедных). Принципиальное отличие состоит в том, что в российском обществе в составе бедного трудоспособного населения преобладают занятые в экономике (то есть «работающие бедные»). В Европе же в разрезе лиц трудоспособного возраста к категории бедных относятся преимущественно безработные [8] (Maleva, Grishina, Burdyak, 2020).
Доля лиц старше трудоспособного возраста в составе бедного населения в России составляет 25,5% (для сравнения: в Западной Европе – 18%). Высокий удельный вес пенсионеров в составе бедного населения в России объясняется низким уровнем пенсионного обеспечения.
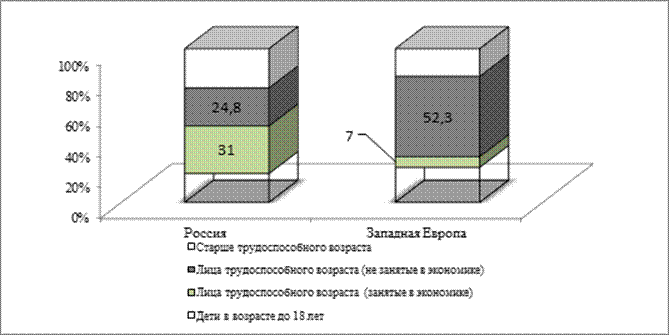
Рисунок 3. Возрастная структура бедного населения в России и Западной Европе
за 2018 год, %
Источники: Росстат, Евростат.
Для оценки остроты проблемы бедности применим «зонную» теорию, пронормировав предварительно следующие индикаторы, отобранные нами как наиболее точно отражающие глубину проблемы бедности в России – дефицит денежного дохода, коэффициент бедности (доля населения с доходами ниже 5,5 долл. в день), доля доходов 10% самых бедных в национальном доходе. В качестве пороговых значений используем фактические значения индикаторов, характерных для Западной Европы (рис. 4).
Таким образом, мы можем отметить, что значение коэффициента бедности в России находится в зоне критического риска (очень близко к зоне катастрофического риска), что является свидетельством глубоких, кризисных процессов, протекающих в обществе.
«Доля доходов 10% самых бедных в национальном доходе» относится к зоне умеренного риска. Согласно официальным данным, на 10% самых бедных в России приходится 2,9% совокупного дохода. В Европе данной группе населения принадлежат 3,3% совокупного дохода.
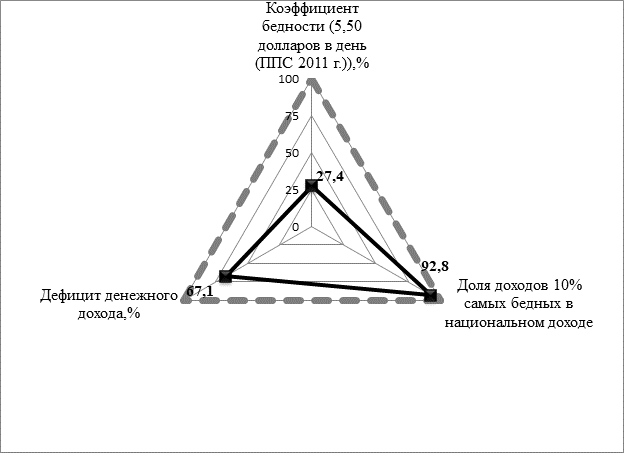
Рисунок 4. Индикаторы бедности России, расположенные по зонам риска (2018 г.)
Источник: составлено автором.
Индикатор «Дефицит денежного дохода в процентах от общего объема денежных доходов населения» находится в зоне значительного риска. В 2019 численность бедного населения по абсолютным значениям составила 18,1 млн человек, которым для ликвидации дефицита денежного дохода требуются 722 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше такого дефицита в 2014 году.
Заключение
Подводя итог проведенному исследованию, отметим, проблема бедности носит глобальный характер – она существует не только в развивающихся странах, но и в развитых странах. Европейские страны преуспели в проведении социальной политики, направленной на борьбу с бедностью, поэтому мы посчитали необходимым изучить европейские монетарные методики измерения бедности, что дало нам возможность более полно осознать масштаб проблемы бедности в России и сравнить монетарные показатели бедности в нашей стране с уровнем стран Западной Европы. Проведенный анализ выявил двукратное занижение фактического уровня бедности в России на протяжении всего периода, пока применялся абсолютный подход к ее измерению в нашей стране. Исследование позволило подчеркнуть наиболее глубинные аспекты российской бедности – высокая доля трудящихся, пенсионеров, многодетных семей в составе и структуре бедного населения.
В статье не рассматриваются немонетарные подходы к определению уровня бедности, но как показывают результаты экспертных оценок, применение депривационного подхода к измерению российской бедности демонстрирует еще больший охват населения страны, в то время как для европейских стран бедность, оцененная по депривациям, ниже, нежели монетарная бедность [6] (Korchagina, Prokofeva, Ter-Akopov, 2019).
«Реализация национальных проектов в России предполагает снижение уровня бедности вдвое к 2024 г.» [20] (Lev, Medvedeva, Leshchenko, Perestoronina, 2021). Особое внимание в рамках реализации национальных проектов будет уделено недопущению формирования «ловушки бедности», попадание в которую ограничивает доступ бедного населения к услугам здравоохранения, образования, инфраструктуре [15] (Cherkashina, 2020).
С 2021 г. в России снова заработала прогрессивная шкала подоходного налога, данная мера направлена на сглаживание социально-экономического неравенства в стране, а для снижения уровня бедности, на наш взгляд, необходимо установить необлагаемый налогом минимум для лиц, отнесенных к категории бедных.
Отдельного внимания в решении вопроса бедности заслуживает система пенсионного обеспечения (среди бедных более 5% составляют работающие пенсионеры). Уровень пенсий в России составляет около 40% от уровня заработной платы, в то время как в Европе их величина достигает 60% от уровня заработной платы.
Активная социальная политика – еще один важный неотъемлемый инструмент для снижения уровня бедности в стране. Увеличение детских пособий, пособий по безработице, адресная помощь необходимы не только в качестве мер по снижению бедности, но и связаны с необходимостью выхода из демографического кризиса.
При разработке мероприятий в рамках пенсионной, социальной, налоговой политик необходимо изучать возможности применения опыта европейских стран по преодолению бедности.
References:
Agangebyan A.G. (2020). O prioritetakh sotsialnoy politiki [Concerning the priorities of social policy] (in Russian).
Carter M. (2009). Looking forward: Theory-based measures of chronic poverty and vulnerability
Duflo E. (2012). Human values and the design of the fight against poverty
Engels F. (1960). Razvitie sotsializma ot utopii k nauke [The development of socialism from utopia to science] (in Russian).
Glazev S.Yu. (2021). Ekonomika i obshchestvo [Economy and society] (in Russian).
Karavaeva I.V., Bukhvald E.M., Soboleva I.V., Kolomiets A.G., Lev M.Yu., Ivanov E.A., Kazantsev S.V., Kolpakova I.A. (2019). Ekonomicheskaya bezopasnost otdelnyh prognoznyh parametrov sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya i byudzhetnoy politiki Rossiyskoy Federatsii na srednesrochnuyu perspektiv [Economic security of individual forecast parameters of socio-economic development and budgetary policy of the Russian Federation in medium term]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (4). 273-334. (in Russian).
Kazantsev S.V., Kolpakova I.A. Lev M.Yu., Sokolov M.M. (2021). Ugrozy razvitiyu ekonomiki sovremennoy Rossii: tsenovye trendy, sanktsii, pandemiya [Threats to the development of the economy of modern Russia: price trends, sanctions, pandemic] (in Russian).
Korchagina I.I., Prokofeva L. M., Ter-Akopov S. A. (2019). Materialnye deprivatsii v otsenkakh bednosti [Material deprivations in poverty estimations]. Population. (2). 51-63. (in Russian).
Lev M. Yu., Medvedeva M. B., Leshchenko Yu. G., Perestoronina E. A. (2021). Spatial analysis of financial indicators determining the level of ensuring the economic security of Russia Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). (1(109)). 21-34. doi: 10.36871/ek.up.p.r.2021.01.02.002.
Lev M.Yu. (2021). Bednost i prozhitochnyy uroven naseleniya v obespechenii sotsialno-ekonomicheskoy bezopasnosti [Poverty and subsistence level of the population in providing social and economic security]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (3). 549-570. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.4.3.112403.
Maleva T. M., Grishina E. E., Burdyak A. Ya. (2020). Khronicheskaya bednost: chto vliyaet na ee masshtaby i ostrotu? [Chronic poverty: what affects its level and severity?]. Voprosy Ekonomiki. (12). 24-40. (in Russian).
Maltus T.R. (2008). Opyt o zakone narodonaseleniya [An Essay on the Principle of Population] (in Russian).
Marks K. (1955). Kapital [Capital] (in Russian).
Rikardo D. (1955). Sochineniya. T.1. Nachala politicheskoy ekonomii i nalogovogo oblozheniya [Essays. Vol. 1. On the Principles of Political Economy and Taxation] (in Russian).
Roik V.D. (2020). Ekonomika razvitiya: neravenstvo, bednost i razvitie [Development economics: inequality, poverty and development] (in Russian).
Saks Dzh. (2011). Konets bednosti: ekonomicheskie vozmozhnosti nashego vremeni [The End of Poverty: the Economic Opportunities of Our Time] (in Russian).
Sen A. (1981). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation
Shevyakov A.Yu., Kiruta A.Ya. (2009). Neravenstvo, ekonomicheskiy rost i demografiya: neissledovannye vzaimosvyazi [Inequality, economic growth and demography: unexplored relationships] (in Russian).
Smit A. (2007). Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov [An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations] (in Russian).
Vedikhina A.S., Karasik E.A. (2015). Metodologiya opredeleniya cherty bednosti: mirovoy opyt i rossiyskaya praktika [The methodology for determining the poverty line: world experience and Russian practice]. Kazanskiy ekonomicheskiy vestnik. (5). 57-63. (in Russian).
erkashina T.Yu. (2020). Izmerenie dokhodov naseleniya: varianty otsenki smeshcheniya [Measurement of population income: variants of estimating biases]. Voprosy Ekonomiki. (1). 127-144. (in Russian).
Страница обновлена: 29.05.2025 в 10:24:24

 Russia
Russia