Globalization of digital transformation trends
Anisimov A.Yu.1, Aleksakhina S.A.1, Gorshkova A.A.1, Seliverstov S.N.1
1 Университет Синергия
Journal paper
Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку
Volume 15, Number 3 (July-september 2025)
Abstract:
The depth of penetration of information and communication technologies into all spheres of economic activity and public life indicates the inevitability of digital transformation processes and sets the vector for the development of global trends in the transition to a digital economy. At the same time, it is possible to note the imbalance in the digital development of various countries, which exacerbates the technological gap between individual entities of the world economy. These conditions determine the relevance of scientific and practical research in the field of digital transformation of individual countries and the international space as a whole. The article conducts a study of the existing world practice of digital transformation, determines the place of the Russian economy in this process, and highlights the factors of successful implementation of global digital trends in the conditions of the national economic system. The obtained results develop theoretical and analytical research in this area and allow to systematize, generalize and determine the potential for use of the world experience of digital transformation in the practice of Russian economic entities.
Keywords: digital economy, digital transformation, technological structure, information and communication technology, digital space, globalization
JEL-classification: O31, O32, O33
Введение
Цифровая революция во всех сферах экономической и общественной деятельности привела к новой технологической эпохе, в рамках которой технологии тесно переплетаются с различными жизненными процессами и определяют успешность достижения параметров экономической эффективности экономических субъектов и систем. В этой связи растет актуальность научных теоретических и прикладных исследований в области ключевых трендов цифровой трансформации. Глобализация и формирование единого или, как минимум, взаимосвязанного цифрового пространства в контексте мировой экономики является одним из базовых трендов четвертого технологического уклада. Следует также отметить, что процессы цифровой трансформации способствуют переходу от индустриализации к информатизации социально-экономического развития, а также гибкости и децентрализации управленческих процессов [2, c.57].
Достижение социально-экономического равновесия в концепции устойчивого развития предполагает, что следующим эволюционным этапом в формировании технологического уклада станет достижение синергетического эффекта от взаимодействия человеческих ресурсов и технологий, что станет возможно после завершения цикла повышения уровня технологичности и автоматизации всех бизнес-процессов. Повсеместный переход к Индустрии 5.0 будет означать решение глобальных задач построения цифровой экономики в мировом, национальном и региональном аспектах.
Теоретические исследования, посвященные трендам инновационного развития, начались задолго до эпохи активного внедрения информационно-коммуникационных технологий и процессов автоматизации в экономические и общественные отношения. Родоначальником теории инновационного развития и автором термина «инновации» является австрийский экономист Й. Шумпетер, который сформулировал концепцию достижения эффективного (интенсивного) экономического роста на основе внедрения инновационных технологий и инструментов управления. Революционный характер научных исследований в области инновационного развития связан с тем, что фактически активные процессы повышения уровня технологичности производственных процессов начались спустя 50 лет после разработки концепции Й. Шумпетера [23, c.8].
Среди ученых, посвятивших свои труды тем или иным аспектам инновационного развития социально-экономических процессов, можно также выделить Н.Д. Кондратьева (одним из стимулирующих факторов формирования новой волны «длинного цикла» считал технологический прорыв, вызванный появлением и внедрением инновационных технологий и инструментов), П. Сорокина (изучал особенности инновационного развития социокультурной сферы, включая влияние общественной трансформации на динамику научных изобретений и открытий) и П. Друкера (его труды затрагивают теоретические аспекты построения постиндустриального общества и инновационной экономики с учетом необходимости соблюдения принципов децентрализации социально-экономического развития) [23, c.9].
Результатом эволюционного развития инноваций становится наращивание уровня технологичности не только производственных, но и социально-общественных отношений. Высокая скорость появления технологических прорывов с начала XXI столетия способствует проявлению ключевых признаков четвертой промышленной революции: замещение традиционных технологий цифровыми аналогами и повсеместное внедрение киберфизических систем. Обобщение признаков цифровой революции и описание концепции цифрового технологического уклада представлено в трудах К. Шваба [1, c.9].
Обозначенные предпосылки подтверждают актуальность проведения теоретических исследований, а также необходимость поиска практических решений в области инструментов, технологий и направлений цифровой трансформации социально-экономических систем от регионального до мирового уровня. Глобальные тренды цифровой трансформации, с одной стороны, задают общий вектор дальнейшего развития экономических субъектов, а с другой стороны, усиливают технологический разрыв между различными странами мира. Вместе с тем, неизбежность перехода к цифровой экономике требует постоянного внимания к эффективности научно-исследовательских работ в этой области, так как отставание в этих процессах неизбежно приведет к усугублению цифровых разрывов и цифровой дискриминации отдельных экономических субъектов и даже стран.
В целом, следует отметить, что развитие цифровых технологий в современных социально-экономических системах осуществляется настолько стремительно, что до сих пор научные теории в сфере цифровой экономики носят дискуссионный характер, а понятийный аппарат до конца не сформирован. Проведенное исследование направлено на обобщение накопленного опыта цифровой трансформации, развитие научных теоретических и практических результатов построения цифровой экономики с учетом особенностей ее функционирования в различных странах, что в совокупности позволит идентифицировать и сформулировать перспективные направления цифровизации российской экономики с учетом глобальных трендов.
Основная часть
Достигнутые к настоящему времени результаты цифровой трансформации мировой экономики отражают не только различные подходы разных стран в построении функциональной и технологической платформы цифровой экономики, но и характеризуют наличие цифрового неравенства в контексте возможности участия отдельных государств в глобальной цифровой системе. Опорной точкой роста процессов цифровой трансформации национальной экономики является тот уровень технологичности, которым страна располагает в настоящее время, а также потенциал его повышения в стратегической перспективе [12, c.114].
Для составления мировых рейтингов цифровой трансформации используются индексы GII (Глобальный индекс инноваций) и GDI (Глобальный индекс цифровизации). Глобальный индекс инноваций включает 82 индикатора, которые классифицируются в 2 блока и 7 укрупненных групп:
1. Ресурсы и условия для разработки и внедрения инноваций:
- институциональное развитие инноваций;
- человеческий капитал;
- наличие и зрелость инновационной инфраструктуры;
- уровень развития национального рынка с учетом востребованности инновационной продукции;
- уровень развития бизнес-структур с учетом потенциала разработки и внедрения инновационных технологий.
2. Практические результаты и достижения в развитии инновационных национальных систем:
- уровень развития инновационных технологий и экономики знаний;
- наличие и качество результатов творческой и научно-исследовательской деятельности.
Глобальный индекс цифровизации включает в свой расчет 42 индикатора, объединенных в 4 укрупненных группы: доступность интернета и связи, цифровые технологии (прежде всего, искусственный интеллект, интернет вещей и облачные вычисления), зеленая энергетика и регуляторная политика в сфере цифровой трансформации. Сопоставление данных по обоим индексам отражает, что страновая дифференцированность по уровню инновационного развития отличается от уровня цифровизации отдельных государств (рисунок 1).
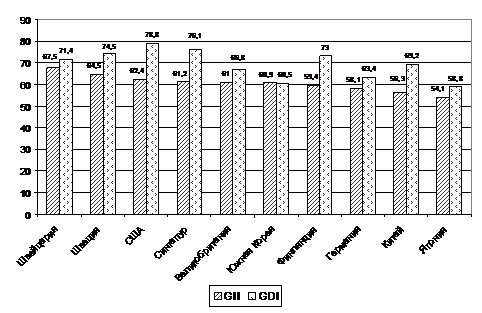
Рисунок 1. Значение индексов инновационного развития и цифровизации в странах-лидерах мирового рейтинга по итогам 2024 года
Источник: составлено авторами на основе [16, 21]
Обобщение и оценка глобальных индексов цифровой трансформации в динамике за ряд лет позволяет выделить кластеры стран в соответствии с достигнутым уровнем развития цифровой экономики и скоростью внедрения инновационных и высокотехнологичных решений в процесс обеспечения экономического роста. Следует учитывать, что сохранение высоких темпов технологического развития на постоянной основе невозможно, в том числе, в силу необходимости временных затрат для разработки и внедрения инновационных технологий [15, c.46]. В таблице 1 представлены группы государств в соответствии с их местом в глобальных инновационных и цифровых рейтингах.
Таблица 1
Классификация стран по уровню цифровой трансформации
|
Наименование
кластера
|
Характеристика
кластера
|
Страны-представители
| |
|
Лидеры
|
опережающего роста
|
страны с высоким уровнем
цифровизации, продолжающие активное внедрение цифровых инноваций и
технологий, обеспечивающих высокую долю финансирования новых разработок и
прорывов для поддержания стабильных темпов наращивания инновационного
развития
|
Сингапур,
Великобритания, США, Китай, Швеция, Южная Корея и др.
|
|
угасающего роста
|
страны с высоким уровнем
цифровизации, но испытывающие затруднения с поддержанием высоких темпов
наращивания инновационного развития в силу инфраструктурных, технологических
и/или финансовых проблем
|
Швейцария,
Финляндия, Дания, Норвегия, Германия, Израиль, Япония и др.
| |
|
Догоняющие
|
страны с высокими темпами
разработки и внедрения цифровых инноваций в стратегической перспективе,
однако, невысоким уровнем цифровой экономики на текущий момент, как правило,
имеют проблемы с обеспечением зрелости инновационной инфраструктуры и/или
зависят от зарубежных источников инноваций
|
Турция, Индия,
Испания, Россия, Польша, Бразилия, Мексика и др.
| |
|
Начинающие
|
страны с низким уровнем
цифровизации и темпами внедрения инновационных технологий, практически
отсутствует инновационная инфраструктура
|
Вьетнам, Аргентина,
Казахстан, Египет, Пакистан и др.
| |
Национальные модели формирования и развития цифровой экономики опираются на механизм взаимодействия государства, бизнеса и общественности в процессе цифровой трансформации социально-экономических отношений. Одними из лидеров опережающего роста, поддерживающими не только высокий уровень развития цифровой экономики, но и продолжающими активно разрабатывать и внедрять инновационные технологии, являются такие страны как США, Швеция и Япония. В каждой из этих стран можно выделить ключевые тренды, задающие вектор развития цифровой экономики в рамках национальной модели [23]:
1. Американская модель цифровой трансформации в построении цифровой экономики опирается на крупные информационно-технологические компании, прежде всего Apple и Microsoft, а в начале XX столетия к ним добавились Google и Meta. Однако, крупные корпорации, как правило, достаточно неповоротливы и инновационность их развития требует определенного запаса времени для согласования процессов цифровизации на всех уровнях организационно-управленческой структуры.
Однако особенностью американской экономической системы является высокая доля малого бизнеса, в сфере которого наиболее просто и быстро осуществлять реализацию высокотехнологичных проектов (стартапов). На основе взаимодействия крупных IT-компаний и бизнес-инкубаторов достигаются высокие темпы разработки и внедрения инновационных решений. Такой подход обеспечивает США стабильно высокую позицию в рейтинге цифровой трансформации, а также позволяет удерживать темпы внедрения инноваций на высоком уровне на протяжении длительного времени.
2. Шведская модель цифровой трансформации учитывает общий вектор развития скандинавской модели экономического развития с полной занятостью и высоким уровнем жизни населения страны. Особенностью шведской модели является инициатива государства как драйвера всех процессов цифровой трансформации. Преобладающая роль государства позволяет разрабатывать и внедрять программы цифровизации на уровне национальной экономической системы. В то же время, особенности социально-экономического развития Швеции с упором на формирование качества и развитие эффективности человеческого капитала способствуют высокой скорости разработки и внедрения инновационных технологий цифровой экономики.
3. Японская модель цифровой трансформации представляет собой симбиоз взаимодействия бизнес-структур и государства в процессах построения цифровой экономики. Ориентир японской экономики на высокотехнологичные производства позволяет достаточно быстро осуществлять разработку и внедрение цифровых технологий в функционирование социально-экономической системы. В связи с тем, что инициатором процессов цифровой трансформации в японской модели является бизнес, можно выделить объективные причины находится в настоящее время в лидерах угасающего роста:
- высокий уровень традиционалистов в руководящем составе японских компаний, что обусловливает снижение цифрового доверия и снижает темпы наращивания внедрения инновационных технологий в бизнес-процессы;
- наличие цифрового неравенства среди населения связано с высокой долей старшего поколения, представители которого испытывают трудности с использованием цифровых технологий.
Российская модель цифровой трансформации ближе к шведской модели, так как ведущую роль в инициации процессов цифровизации занимает именно государство, а институты малого бизнеса и бизнес-инкубаторов развиты на уровне, недостаточном для ускорения темпов разработки и внедрения инновационных технологий [3, c.74]. Реализация национальных проектов и федеральных программ в рамках построения цифровой экономики позволила России нарастить и использовать потенциал цифровой трансформации. Итогом такой государственной политики, стимулирующей цифровую трансформацию и разработку собственных инновационных решений с учетом специфики российской социально-экономической системы, стала лидирующая позиция России в международных рейтингах цифровизации систем государственного управления и банковской деятельности [4, c.25].
Согласно данным международных исследований, можно выделить показатели, формирующие позицию национальной экономики в рейтинге цифровой трансформации: уровень научно-исследовательской активности (количество научных публикаций за год), количество полученных патентов и уровень финансирования научных исследований и разработок (доля в ВВП страны). Для понимания международной позиции России в процессах цифровой трансформации целесообразно сопоставить эти показатели по странам различного уровня цифровизации: США и Швеция (лидеры опережающего роста), Япония (лидер угасающего роста), Бразилия (находится в одной группе с Россией и относится к догоняющим странам) и Казахстан (начинающие страны). В таблице 2 представлены результаты выбранных стран по уровню технологического развития.
Таблица 2
Место России в глобальных процессах цифровой трансформации по итогам 2024 года
|
Наименование страны
|
Количество научных
публикаций, ед.
|
Количество полученных патентов, ед.
|
Уровень расходов на
цифровую экономику, % к ВВП
|
|
США
|
422808
|
598085
|
3,46
|
|
Швеция
|
20421
|
2235
|
3,42
|
|
Япония
|
98793
|
300133
|
3,3
|
|
Россия
|
81579
|
26720
|
0,94
|
|
Бразилия
|
60148
|
25369
|
1,15
|
|
Казахстан
|
2367
|
917
|
0,12
|
Проведенное исследование отражает достаточно низкий уровень финансирования научных исследований в России: всего 0,94% от ВВП, в то время как лидирующие страны тратят более 3% (лидером по этому показателю является Израиль – 5,56%, на втором месте Южная Корея – 4,93%, третье место занимает США – 3,46%). Безусловно, абсолютная величина вложений в инновационные разработки варьируется в зависимости от масштабов страны, однако ранжирование по доле таких расходов позволяет оценить приоритетность развития цифровой экономики для каждого государства в рейтинге.
Количество полученных патентов в России в десятки раз отстает от стран-лидеров, однако в Швеции, которая демонстрирует высокий уровень цифровой трансформации это количество еще меньше: 2235 шведский патентов против 26720 российских патентов по итогам 2024 года. Абсолютным лидером в этом направлении является Китай, который в 2024 году зарегистрировал 1,7 млн. патентов, вторую позицию занимают США, однако их количество патентов почти в три раза меньше – 598 тысяч единиц. Разрыв между первой и пятой позицией в рейтинге еще более внушителен, в Индии, которая замыкает топ-5 стран по этому показателю, патентов выдано чуть более 90 тысяч единиц, Россия занимает 9 строчку рейтинга, Бразилия замыкает топ-10 рейтинга.
Изучая научно-исследовательскую активность, следует подчеркнуть, что в этом направлении также лидирует Китай с количеством публикаций порядка 528 тысяч статей, на втором месте находятся США – немного меньше 423 тысяч статей. Достаточно скромные результаты демонстрирует Швеция, одна из стран-лидеров цифровой трансформации опубликовала в 2024 году всего 20,5 тысяч статей. Россия занимает 7 строчку рейтинга с количеством опубликованных научных результатов в 81,5 тысячу статей.
В целом, следует отметить, что страны-лидеры цифровой трансформации демонстрируют высокие результаты не по всем направлениям инновационного развития. Ключевым показателем, отражающим как потенциал, так и результаты развития цифровой экономики, является объем финансирования исследований и разработок инновационных технологий [24, c.987]. Последовательное наращивание расходов на развитие цифровой экономики позволит повысить качество и эффективность трансформационных процессов в российской экономике.
Несмотря на дифференцированность параметров цифровой трансформации, достигнутых в странах-лидерах, можно выделить и обобщить схожие черты их инновационного развития:
- государственная поддержка (а еще лучше – государственная инициатива) процессов цифровой трансформации, наличие национальной концепции/программы построения цифровой экономики и механизма взаимодействия государства и бизнес-структур по вопросам инновационного развития [25, c.472];
- наличие развитых институтов малого и среднего бизнеса и/или бизнес-инкубаторов, через которые возможна разработка и реализация высокотехнологичных и инновационные бизнес-проектов (стартапов) [10, c.143];
- наличие, масштабность и высокий уровень развития IT-компаний, формирующих цифровое пространство и инновационную инфраструктуру национальной экономики, способствуют не только активизации процессов создания и внедрения цифровых технологий, но и являются потребителями полученных результатов [9, c.97];
- высокий уровень развития и цифровой грамотности населения, в том числе оптимальная структура образования (как по уровням, так и по профессиональной принадлежности), а также сформированность навыков и компетенций, необходимых для обеспечения инновационного развития;
- наличие качественной, эффективной и независимой системы цифровой безопасности, так как перевод большого количества операций, прежде всего, финансовых транзакций, в цифровое пространство требует пристального внимания к инструментам защиты персональных данных пользователей [8, c.514].
Российская модель цифровой трансформации учитывает глобальные тренды развития цифровой экономики, однако обладает специфическими характеристиками, среди которых наиболее существенными являются:
1. Особенности социально-демографического развития, прежде всего, достаточно низкий уровень тяготения населения к урбанизации: порядка 25% населения России предпочитают жить в сельской местности, а в целом страна находится на 60 месте по уровню урбанизации с его значение в 74,6%. Если сравнивать с лидерами цифровой трансформации, то Япония находится на 15 месте (91,7% городского населения), Швеция занимает 24 место (87,7% городского населения), а США находится на 36 месте (82,5% городского населения) [20].
Значение этого фактора связано с наличием проблем доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры для сельского населения. Для России с широкой географической протяженностью, низкой плотностью населения в отдельных регионах, а также сложными природно-климатическими условиями и разными часовыми поясами, фактор социально-демографического развития в обеспечении процессов цифровой трансформации оказывает сильное воздействие на их качество и эффективность [5, c.68].
Следует также учитывать особенности образовательной среды с точки зрения ее потенциала в подготовке специалистов в области цифровизации и информационных технологий. Помимо кадров для цифровой экономики образовательная среда должна обеспечивать достижение необходимого уровня цифровой грамотности населения в целом, как конечных потребителей цифровой экономики [11, c.151].
2. Начальный уровень развития института стартапов и бизнес-инкубаторов в России. Несмотря на всестороннюю регуляторную поддержку со стороны государства малый бизнес не стремится к активному развитию высокорискованных технологических проектов, а крупные корпорации тратят на это слишком много времени в силу сложности иерархической структуры инновационных процессов. В итоге к настоящему времени на российском рынке венчурных инвестиций преобладает государственное финансирование, корпоративные инвесторы реализуют проекты, связанные с их собственной деятельностью, а частные фонда сократили объем вложений практически в 8 раз [22].
Вместе с тем, одной государственной поддержки в виде грантов, субсидий и льготных кредитов недостаточно, для повышения уровня технологичности экономических субъектов до потребностей цифровой экономики. Необходимо учитывать опыт лидеров цифровой трансформации и обеспечивать эффективное взаимодействие государства и бизнеса (особенно крупных и высокотехнологичных корпораций) в процессах финансирования инновационных проектов [6, c.184].
3. Высокий уровень цифровизации институтов государственных и социальных услуг, в том числе на основе создания единого портала Госуслуги, Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), подключение к единому контуру биометрической идентификации (ЕБС) в концепции реализации института электронного правительства. Заинтересованность государства в цифровой трансформации выражается в формировании, развитии и обслуживании инфраструктуры цифровой экономики, включая обеспечение доступности широкополосного интернета и стабильной мобильной связи [13, c.162]. Такой подход расширяет возможности населения по переходу в сферу цифровых продуктов и услуг.
4. Необходимость разработки собственных технологий и импортозамещения зарубежных аналогов. Важность достижения информационной безопасности подтверждается замедлением процессов цифровой трансформации в российской экономике после внедрения антироссийских санкций и блокировки множества сервисов информационно-коммуникативной сети [14, c.163], [26]. С другой стороны, этот период целесообразно использовать для разработки и внедрения отечественных аналогов цифровых сервисов и программных продуктов.
5. Финансовые компании выступают инициаторами и драйверами процессов цифровой трансформации. Ядром построения российской цифровой экономики выступает национальная банковская система, а построением базовой цифровой инфраструктуры занимался Центральный банк РФ на основе инициализации и закрепления перечня финансовых технологий [7, c.19]. К настоящему времени системно значимые банки России являются одними из мировых лидеров цифровой трансформации, создавая соответствующие стратегии, и успешно развивающие собственные цифровые экосистемы [27].
Заключение
В целом, глобальные тренды цифровой трансформации находят свое отражение в цифровизации российской экономики в полной мере. Вместе с тем, остается нерешенной проблема достижения необходимого уровня цифровой и информационной безопасности. Преодоление обозначенных барьеров позволит не только нарастить темпы цифровизации социально-экономических систем, но и усилить технологическую независимость России в условиях санкционного давления и воздействия факторов неопределенности.
Накопленный мировой опыт цифровой трансформации свидетельствует о наличии различных организационно-методических подходов к ее осуществлению. Модели цифровизации в странах-лидерах не имеют единообразной структуры и предполагают индивидуальный подход перехода к цифровой экономике в зависимости от параметров социально-экономического развития страны и потенциала ее технологического развития.
Таким образом, глобализация инновационных процессов и расширение масштабов единого цифрового пространства создают предпосылки для наращивания темпов цифровой трансформации, как отдельных экономических субъектов, так и регионов / государств в целом. Успешность социально-экономического развития в эпоху нового технологического уклада зависит от того, насколько качественно и эффективно используются цифровые инновации и технологии.
References:
Abashkin V.L., Abdrakhmanova G.I., Vishnevskiy K.O., Gokhberg L.M. (2025). Digital Economy Indicators 2025
Afanasev A.A. (2024). Digital transformation of industrial production: theoretical aspects and policy of its implementation: Scientific report
Anisimov A.Yu., Plakhotnikova M.A., Suslova M.A., Skryabin O.O. (2024). Specific impact of digital transformation in economy on bank strategy administration. Bulletin of Plekhanov Russian University of Economics. 21 (1). 96-104. doi: 10.21686/2413-2829-2024-1-96-104.
Bakharev E.Yu., Anisimov A.Yu. (2024). Strategic aspects of digital transformation of organizations: benefits and prospects. Bulletin of Chelyabinsk State University. (6). 200-209. doi: 10.47475/1994-2796-2024-488-6-200-209.
Belyaeva E.S., Shishkova O.N., Barteneva A.A., Cherkasova A.M. (2021). Digital transformation of the banking sector of the economy. Tsitise. (4). 55-64.
Dzarasov R.S. (2023). Russia's place in the global economy, investments and innovations in the era of digitalization. Geoekonomika energetiki. (2). 72-99.
Kazarenkova N.P., Biktagirova E.V., Ershov N.Yu. (2023). Omnichannel approach to customer service in the digital economy. Proceedings of the South-Western State University. Series: Economy. Sociology. Management. (3). 65-75.
Kazarenkova N.P., Kolmykova T.S. (2017). Modern growth points of the Russian banking sector and their impact on economic development of the country Journal of Applied Economic Sciences. (4). 985-994.
Kolmykova T.S., Kazarenkova N.P. (2013). Modern strategies for increasing the competitiveness of a commercial bank in foreign markets Moscow.
Kolmykova T.S., Kovalev P.P., Ukolova L.A. (2021). Evolution of digital ecosystems in the Financial sector. Region: sistemy, ekonomika, upravlenie. (4). 16-24.
Kolmykova T.S., Merzlyakova E.A., Bredikhin V.V., Tolstykh T.O., Ovchinnikova O.P. (2018). Problems of formation of perspective growth points of high-tech productions The Impact of Information on Modern Humans. 469-475.
Merzlyakova E.A., Bridskiy E.V. (2021). The main trends and promising directions of e-commerce development in Russia. Tsitise. (2). 510-522.
Merzlyakova E.A., Sergeeva V.Yu., Makarov N.Yu. (2021). Features of the development of high-tech and high-tech industries. Vestnik severo-kavkazskogo federalnogo universiteta (newsletter of north-caucasus federal university). (4). 94-103.
Mytenkov S.S., Zhelenkov B.A. (2022). Digitalization in Russia and the world through the prism of interaction between the state, business and the population. Biznes. Obschestvo. Vlast. (2-3). 141-155.
Obukhova A.S., Chernyh Ya.V. (2022). Digital platforms and their role in the innovative development of the economy. Proceedings of the South-Western State University. Series: Economy. Sociology. Management. (1). 58-67.
Obukhova A.S., Kazarenkova N.P. (2020). Application of digital technologies in the evaluation of the credit possibility of the borrower. Proceedings of the South-Western State University. Series: Economy. Sociology. Management. (2). 140-153.
Obukhova A.S., Kolmykova T.S., Kazarenkova N.P., Chistyakova M.K., Sayymova M.D. (2022). Digital technologies as a factor in ensuring competitiveness in agricultural production. Bulletin of Agrarian Science. (4). 112-117.
Palamarchuk O.A. (2024). The role and place of Russia in the processes of digitalization of the global economy. Progressivnaya ekonomika. (4). 69-82.
Prokhorov A., Konik L. (2019). Digital transformation. Analysis, trends, global experience
Smirnov E.N. (2019). Digital transformation of the global economy: trade, production, markets
Страница обновлена: 18.04.2025 в 11:33:50
